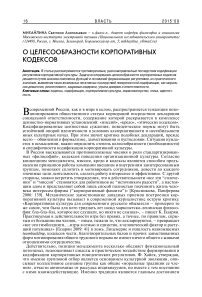О целесообразности корпоративных кодексов
Автор: Михайлина Светлана Анатольевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 9, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются противоречивые, разнонаправленные последствия кодификации регулятивов корпоративной культуры. Задача исследования целесообразности корпоративных кодексов решается путем анализа комплекса функций и оснований формализации регулятивов, их практического значения, выявления таких возможных негативных последствий поверхностной кодификации, моральная демагогия, рессентимент, кадровые издержки, утрата доверия и ответственности.
Кодексы, кодификация, корпоративная культура, морализаторство, этика, идентичность
Короткий адрес: https://sciup.org/170168095
IDR: 170168095
Текст научной статьи О целесообразности корпоративных кодексов
В современной России, как и в мире в целом, распространяется тенденция позиционирования общественного статуса корпораций посредством декларации социальной ответственности, содержание которой раскрывается в комплексе ценностно-нормативных установлений: «миссий», «кредо», «этических кодексов». Кодифицированные ценностные суждения, поведенческие нормы могут быть устойчивой опорой идентичности в условиях альтернативности и нестабильности иных культурных начал. При этом звучит критика подобных деклараций, прежде всего – обвинения в формализме, заимствовании и пустословии. Ситуация нуждается в осмыслении, важно определить степень целесообразности (необходимости) и специфичности кодификации корпоративной культуры.
В России высказываются противоположные мнения о роли стандартизированных «философий», кодексов поведения организационной культуры. Согласно концепциям менеджмента, миссия, кредо и кодексы являются способом предъявления принципов работы компании внешним и внутренним заинтересованным группам, помогают сплотить и мотивировать сотрудников, довести до каждого значимые цели деятельности, сделать работу интереснее и эффективнее. С другой стороны, можно встретить утверждения, что в действительности «все эти “сплочения” и “миссии” становятся для работников не “источником радости”, а настоящим адом и представляют собой лишь способ полностью подчинить жизнь человека интересам фирмы (“корпоративный фашизм”)» [Красникова, Панферова 2006: 139]. Механическое заимствование западных приемов построения корпоративной культуры вызывает в современной журналистике острую критику. «Корпоративная культура для современного русского обывателя – примерно то же самое, чем была для него тридцать лет назад марксистско-ленинская философия: бла-бла-бла, которое все слушали, но никто не слышал», – пишет К. Газарян. Практикуемая в действительности игра без правил, а точнее, по правилам, скрытым от большинства членов, – иным, нежели те, что декларируются, – превращает «все эти тимбилдинги, …игры в семью и единство, в человеческий фактор и растущий потенциал» [Газарян 2009: 41] в ложь. Лицемерие и пошлость навязываемых teambuilding , кодексов чести, благотворительных балов и прочих заимствованных форм мотивирования общего трудового порыва не имеют ничего общего c живыми отношениями сотрудничества.
Исторически основная функция кодификации поведенческих регулятивов (прежде всего, ценностей и норм) корпорации заключалась в необходимости укоренения человека в замкнутом сообществе (и достижения таким образом идентичности). В процессе перехода к современному обществу функциональноцелевой приоритет нравственно-поведенческих кодексов смещается в сторону задачи реализации оптимума коллективных взаимодействий в рамках индивидуалистической культуры при сохранении задачи защиты человеческого достоинства. Кодификация превратилась в инструмент регуляции профессиональной коммуникации, в частности, в сфере технологий управления конфликтами. В глобализирующемся обществе для нее возникают новые социальные и культурные основания. Это, во-первых, распространение «открытых» организационных структур, объединяющих офисных работников, фрилансеров и участников на добровольной основе (случай программистских сообществ). В этом случае очевидна необходимость четкой презентации правил игры. Во-вторых, диалектика развития глобальной культуры конкретизируется в требовании сохранения культурного многообразия и становления при этом унифицированных поведенческих регулятивов деловой (профессиональной) культуры, эффективной для совместного решения планетарных проблем.
Современные исследования выявляют следующую совокупность функций кодификации ценностей и поведенческих норм в субкультуре сообщества, институции:
-
– закрепление социального статуса или авторитета;
-
– содействие процессам групповой идентификации, а также самоидентификации индивида (при этом следует учитывать и противоположный вектор процесса: профессиональная идентичность генерирует индивидуальные ценностные ориентации и формирует представления профессиональной группы о нормах и образцах взаимодействий);
-
– ускоренная адаптация к условиям и вживание в архетипы;
-
– обеспечение продуктивного взаимодействия в оптимальных формах;
-
– систематизация и объяснение историко-научных сведений, характеризующих специфику деятельности (управление знаниями);
-
– фиксация способов практического усвоения новаций, творческих достижений (когнитивная социализация);
-
– защита институционального порядка в условиях нестабильности, угрозы аномии.
Следовательно, кодификация выполняет функцию сохранения устойчивости развития, преемственности, т.е. консервативную [Михайлина 2013: 21], или сохраняющую, по отношению к той организационной культуре, которая имеет мотивирующий потенциал. Конструкт мотивирующей групповой субкультуры основан на такой характеристике последней, как системность, целостность ценностнонормативных оснований. Подобная корпоративная культура предлагает устойчивые поведенческие образцы, естественным образом разделяемые большинством.
Принятие кодекса не создает культуру и нравственность сообщества, а может скорее фиксировать этап саморегулирования организационной среды либо становления профессиональной деятельности как институции, а данная фиксация способна задавать импульсы развития «свежей» моральной рефлексии. Некая формальная «миссия» (идея, вдохновляющая людей; социально значимая цель) не способна сама по себе обеспечить лояльность, репутацию и успех. «Миссия» скорее задает интегральный вектор усилий по формированию субкультуры.
Итак, в системе корпоративной культуры поведенческие кодексы закрепляют ценностно-нормативный минимум, указывают на социализирующую функцию организационных отношений. Практическое значение имеет то, что кодексы служат формализованным инструментом разрешения конфликтов. Как правило, обращение к кодифицированным нормам эффективно для разрешения конфликта лишь в поле профессиональных (производственных) коллизий; в случае дефицита времени, требуемого для свободного, взвешенного выбора в ситуации нравственного конфликта, члены сообщества могут положиться на выработанные стереотипы.
Формирование нравственно-поведенческих норм в организационной культуре детерминировано специфическими закономерностями; оно не поддается прямому административному регулированию. Привлечение специалистов-консультантов или, по выражению В.И. Бакштановского и Ю.В. Согомонова, «институциализи-рованных субъектов этики публичных арен» (профессиональных ассоциаций, центров этической экспертизы и т.д.), позволяет выявить «этическую аутентичность» инфраструктуры профессиональных и организационных поведенческих кодексов, профилактировать замену нравственной составляющей свода норм всякого рода формальными регламентами и функциональными стандартами [Бакштановский, Согомонов 2007: 42-43]. Эти субъекты призваны компетентно представлять способы «сцепления», когеренции норм, моральных ценностей, поведенческих правил между собой и с другими (правовыми, административными, организационными и т. п.) требованиями применительно к конкретному сообществу. При этом этический консалтинг сталкивается с трудностями как в деле внедрения нравственноповеденческих норм, так и в акте создания их кодексов. Одна из проблем в данной практике связана с внутренним неприятием деловой средой любых форм идеологического давления. В перегруженности кодексов и «миссий» моральными суждениями и оценками люди чувствуют опасность манипулирования сознанием. Еще Конфуций говорил, что «красивые речи вредят морали». Софизмы и моральная демагогия как средство манипуляции известны со времен Сократа. «Демагогия есть фонетическая патология ценностного мышления, сознательная или не до конца осознаваемая подмена морали одной только ее видимостью, …подавление возражений, орудие коллективного внушения, самовозвеличивание и прикрытие некомпетентности самих ораторов» [Дубко 2005: 130]. Морализаторство представляет собой ложную, деформированную нравственную позицию, способ демонстрации превосходства и других форм инструментального употребления смыслов и ценностей, проявление эмоциональной незрелости и несдержанности. Роль судьи или ментора в вопросах морали весьма шатка и двусмысленна: тот, кто охотно принимает на себя эту роль, «уже одним этим фактом обнаруживают такое самодовольство, которое органически чуждо морали и является безошибочным индикатором этической глухоты» [Гусейнов 1995а: 18]. По мнению А.А. Гусейнова, главная опасность моральной демагогии – в селекции людей по нравственному критерию. «Развести людей по разные стороны этической баррикады – значит провести между ними такую пропасть, которую уже невозможно преодолеть» [Гусейнов 1995б: 8]. Злоупотребление моральными оценками часто камуфлирует профессиональную неуверенность, а также действительные причины просчетов.
Е.Л. Дубко относит к видам морализации, среди прочего, следующие: «демократическую риторику, для которой характерны прагматичность (оппозиции “лучше” – “хуже”, “полезно” – “вредно”), использование абсолютных ценностей символического характера», в т.ч. религиозной моральной проповеди, включающей сакральные термины и смыслы, а также обнадеживающую и успокаивающую риторику прогресса; широкие заимствования юридических терминов из области прав человека и т.п. [Дубко 2005: 152-153].
Этический менеджмент в организации должен прежде всего содействовать равноправному двустороннему обмену по поводу ценностей, правил взаимодействия и принципов развития между сотрудниками и администрацией. Правильно выстроенные коммуникации становятся условием формирования сильной внутренней корпоративной идентичности, мотивирующей культуры. В современной теории и практике менеджмента подобный идеальный образ коллективного взаимодействия выражается посредством конструкта «командный дух». Командный дух предполагает не просто дружелюбную атмосферу, взаимозависимость, но и добровольную взаимозаменяемость коллег во имя общего дела; не просто толерантность, но и амбивалентность оценок. Последнее означает способность понимать, что и отрицательные черты товарища по команде могут быть обращены в положительный (для общего блага) результат при том, что востребованы и уважаемы (признаны) его неоспоримые положительные качества и способности, продуцирующие успех.
Констатируя оправданность кодификации (ее положительного воздействия на отношения, климат организации), необходимо учитывать и прогнозировать ее возможные отрицательные последствия. Мелочная регламентация и отторжение нарушителей норм корпоративного кодекса (чрезмерные санкции) могут привести к существенным кадровым издержкам: потерям дерзких и талантливых молодых специалистов, самодостаточных профессионалов высокого уровня. Важно также учитывать, что строгие поведенческие рамки, которые побуждают к автоматическому выполнению предписаний, лишают сотрудника инициативы, «любви к ответственности» (как говорят немцы), вызывают ослабление моральной воли, что «может привести к ненадлежащему поведению в нестандартных ситуациях» [Васильев, Дробышев, Конов 2003: 35]. В философском смысле отстраненность от ответственности в сочетании со слабой личной идентичностью провоцирует аморализм в профессиональной практике.
Представление поведенческого кодекса в качестве высшего авторитета, ссылка на который позволяет выносить негативные оценки личности как целостности (не отдельным ее поведенческим актам), могут быть использованы для выражения рессентимента. М. Шелер описал этот феномен следующей формулой: «формальная структура выражения ресентимента всегда одна и та же: (А) утверждают, восхваляют не ради его собственного качества, а с интенцией – не находящей языковой формулировки – отрицать, порицать, девальвировать нечто иное (В). А “разыгрывают” против В» [Шелер 1999: 118]. Речь здесь идет об отчужденных формах морали, коренящихся в психологических проблемах (комплексах, зависти и аффектах) и имеющих своим следствием подтасовку ценностей или даже их фальсификацию.
Избыточность партикулярных корпоративных стандартов может привести к кризису коллективной идентичности, вызванному «дисгармонией между описательными и нормативными образами себя», в свою очередь кризис идентичности индивидов «приведет к кризису идентичности зависящих от них индивидов» [Хесле 1994: 121].
Формализованность, отчужденность, в некоторых случаях – закостенелость нравственно-поведенческих норм вызывает и одновременно характеризует феномен «корпоративизма как группового эгоизма»: торжества частных, партикулярных интересов закрытого сообщества. Противостоит групповому эгоизму, замещающему ориентированные вовне цели и поэтому разрушительному, феномен командности, в котором актуализируется этическая ценность функциональной взаимозависимости и солидарности на фоне коллективных успехов в достижении социально значимой цели.
Фактически корпоративные кодексы многих российских организаций представляют собой фасад, который все видят, но в который после включения в реальные отношения в компании уже мало кто верит. Они служат инструментом воздействия топ-менеджеров на подчиненных, «причем ни одна из сторон не следуют этим правилам в действительности: руководители “подают пример”, подчиненные делают вид, что ему следуют» [Градосельская 2006: 127]. Сотрудники равнодушно или негативно воспринимают правила, в которых не усматривают функциональный, когнитивный или возвышающий достоинство личности потенциал, а следуют этим навязанным правилам, руководствуясь необходимостью простой адаптации. При этом господствует управленческий миф, что нормальная психология сотрудников состоит в том, чтобы работать исключительно за получаемое вознагражде- ние. Поэтому и отношение к «миссиям», кодексам и т.п. – как к фасаду или игре; а солидаризирующий потенциал норм деловой этики оказывается вне поля зрения управленцев.
Кризис культуры организации выражается в том, что большинство ее членов не принимают корпоративные правила (утрата доверия), которые в определенный момент оказываются предельно дистанцированными от «неформальной человечности», необходимой для творческого и профессионального самовыражения.
Лояльно-групповое сознание (профессиональное, этническое и т.п.) не всегда выступает как эгоистическое либо подавляющее индивидуальность. Группы могут отстаивать как общие интересы, подавляя личные, так и, напротив, формировать и отстаивать личные ценности, воздействуя на внешнее окружение, на высшие слои социальной иерархии. Социально-философский анализ кодификации и этическое просвещение призвано содействовать пониманию, что последняя инстанция мотивации поступка, морального выбора – индивидуальное ответственное решение, а при особо благоприятных условиях – решение консолидированного социально ответственного группового субъекта.
Список литературы О целесообразности корпоративных кодексов
- Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. 2007. Прикладная этика: идея, основания, способ существования. -Вопросы философии. № 9. С. 39-49
- Васильев Д.В., Дробышев П.Ю., Конов Д.В. 2003. Административная этика как средство противодействия коррупции. М.: Московский центр Карнеги. Рабочие материалы. № 4. 45 с
- Газарян К. 2009. Отечество в безопасности. Почему русскому человеку кризис не страшен. -Русская жизнь. № 2-3
- Градосельская Г.В. 2006. Мифы новых российских корпораций. -Неприкосновенный запас. № 4-5. С. 126-137
- Гусейнов А.А. 1995а. Великие моралисты. М.: Республика. 351 с
- Гусейнов А.А. 1995б. Моральная демагогия как форма апологии насилия. -Вопросы философии. № 5. С. 5-12
- Дубко Е.Л. 2005. Политическая этика. М.: Академический проект; Трикста. 720 с
- Красникова Е., Панферова Н. 2006. Ресурсы и ограничения корпоративной этики в современных российских компаниях. -Неприкосновенный запас. № 4-5. С. 139-146
- Михайлина С.А. 2013. Социально-философский анализ поведенческих регулятивов в корпоративной культуре: автореф. дис. … к.филос.н. М. 27 с
- Хайек Ф. 1991. Происхождение и действие нашей морали: проблема науки. -Эко. № 12. С. 177-192
- Хесле В. 1994. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности. -Вопросы философии. № 10. С. 112-123
- Шелер М. 1999. Рессентимент в структуре моралей. -М.: Наука. 231 с