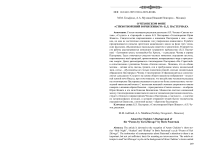О чеховском фоне "Стихотворений Юрия Живаго" Б.Л. Пастернака
Автор: Гельфонд Мария Марковна, Мухина Анна Анатольевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (51), 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рецепции рассказов А.П. Чехова «Святою ночью», «Студент» и «Архиерей» в цикле Б.Л. Пастернака «Стихотворения Юрия Живаго». Свидетельства современников о внимании Пастернака к ним - важное, но еще не достаточное основание для утверждения взаимосвязи. В работе предпринимается попытка прочтения живаговского цикла на фоне трех чеховских рассказов, объединенных пасхальным сюжетом и хронотопом. В первой части работы рассматривается концепция «страшного промежутка» (Б.Л. Пастернак) - бытования земли, оставшейся без Христа, - в рассказах Чехова и лирике Пастернака. Здесь отмечается сходство частных моментов: ощущения пустоты, переживаемого всей природой, прикосновения, возвращающего веру в преодоление смерти. Далее рассматривается стихотворение Пастернака «На Страстной» в сопоставлении с рассказом Чехова «Святою ночью». Показано, что их общие мотивы - ночная мгла, звезды, тревога, сон и пробуждение земли, колокольный звон, слезы - обусловлены не столько единством реалий, сколько сознательным обращением Пастернака к Чехову. Стихотворение «Гефсиманский сад» сопоставляется с рассказом «Студент» на основе общего предмета изображения - последней земной ночи Иисуса, при этом показано, что воздействие чеховского рассказа на стихотворение Пастернака оказывается едва ли не более значительным, чем исходный евангельский сюжет. С несколько меньшей степенью уверенности можно говорить о влиянии образа Николая - героя рассказа «Святою ночью» - на образы Юрия Живаго и его дяди Николая Веденяпина. Множество частных совпадений между стихотворениями живаговского цикла и чеховскими рассказами свидетельствуют о близости мировоззрения Чехова и Пастернака, в частности - о системе их историософских взглядов, в которой отправной точкой бытия человечества оказывается Евангелие, а итоговой целью - обретение бессмертия. Ключевые слова: Б.Л. Пастернак; «Стихотворения Юрия Живаго»; А.П. Чехов; рецепция.
Б.л. пастернак, "стихотворения юрия живаго", а.п. чехов, рецепция
Короткий адрес: https://sciup.org/149127217
IDR: 149127217 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00106
Текст научной статьи О чеховском фоне "Стихотворений Юрия Живаго" Б.Л. Пастернака
В пору работы над романом «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернак обмолвился Е.А. Крашенинниковой, что «все свое богословие» он «вычитал у Чехова». [Пастернак 1997, 615] Вероятно, к этому времени относилось как минимум второе его серьезное прочтение; обстоятельства первого позволяют восстановить мемуары Н.П. Вильмонта. Младший друг поэта приводит разговор 1923 г, из которого следует, что до того времени Б.Л. Пастернак видел в Чехове лишь автора «Лошадиной фамилии», «Злоумышленника» и «Унтера Пришибеева» - всего того, что «так смешило отца и его знакомых». [Вильмонт 1989, 119] По словам Н.П. Вильмонта, именно от него (а затем и с его голоса) Б.Л. Пастернак узнает рассказ «Студент» и испытывает «боль и радостную растроганность художника», соединенную вероятно, со смущением от позднего узнавания: «- Что ж! Почитаем Чехова на старости лет. - Пастернаку было тогда тридцать три года, а мне столько же, сколько чеховскому студенту» [Вильмонт 1989, 119]. Следом за «Студентом» Н.П. Вильмонт открывает Б.Л. Пастернаку еще два чеховских рассказа - «Святою ночью» и «Архиерей»; последний, по словам мемуариста, Б.Л. Пастернак не мог дочитать: «...голос дрожал от сдержанных, восхищенных рыданий» [Вильмонт 1989, 127] (в этой реакции, точнее - в ее передаче Н.П. Вильмонтом, вероятно, сказалась реакция Василисы на рассказ Ивана Великопольского). Отзвуки «Архиерея» Н.П. Вильмонт услышал три десятилетия спустя в «Гефсиманском саде» и «На Страстной»; отголоски «Студента» - в «Рождественской звезде». Как подтверждение своей догадки мемуарист приводит и разговор Б.Л. Пастернака с сыном: «Как же велика была моя растроганность и каково мое счастье, когда Леня Пастернак (Леонид Борисович) откликнулся на мои мысли о чеховском происхождении религиозных мотивов в стихах Юрия Живаго, он мне сказал, что отец дал ему на прочтение вот эти стихи и потом спросил его, откуда они, по его впечатлению, “идут”. Леня смутился и не мог ответить. Борис Леонидович даже немного рассердился на такую его несообразительность и, конечно, был несправедлив к нему. Я бы тоже спасовал, если бы не это давнее мое воспоминание. “Неужели же ты не уловил здесь чеховского начала?” - сказал разочарованный автор» [Виль-монт 1989, 130-131].
Свидетельства современников - важное, но еще недостаточное основание для того, чтобы говорить о чеховском генезисе «Стихотворений Юрия Живаго»; для этого необходимо прочитать стихи Пастернака на фоне чеховских рассказов. Подобных попыток, насколько нам известно, не предпринималось: чеховский слой у Пастернака был отмечен на уровне заглавия и эпиграфа к работам о «Студенте» и «Архиерее» Н. Д. Тамарчен-ко [Тамарченко 1997, 37-54] и И.Л. Альми [Альми 2002, 470]; в работах С. Сендеровича отмечались возможные чеховские подтексты «Сказки» [Сендерович 1991а; Сендерович 1991b]; нам приходилось ранее касаться чеховских реминисценций в прозаической части романа [Гельфонд, Мухина 2018,214-225]. Но если в ней круг так или иначе затронутых чеховских произведений достаточно широк - от «Мальчиков» до «Трех сестер», - то «Стихотворения Юрия Живаго» резонируют, кажется, лишь с теми тремя рассказами, которые названы в мемуарах Н.П. Вильмонта.
Близость этих трех рассказов, разделенных значительными временными промежутками («Святою ночью» был написан в 1886 г, «Студент» -в 1894, «Архиерей» - в 1901), отмечалась неоднократно и возводилась к жанровым координатам «пасхального рассказа» [Собенников 2001, 30; Есаулов 2004, 524-544]. Между тем, в случае Чехова это определение никак нельзя назвать точным: если действие первого рассказа действительно происходит «святою ночью» (но в основном предваряет пасхальную службу), то действие «Студента» относится к страстной пятнице, а «Архиерея» - охватывает всю предпасхальную неделю с четырьмя подчеркнутыми ее временными точками - вербным воскресением, страстным четвергом, страстной субботой и собственно Пасхой. При этом в центре чеховского внимания оказывается именно тот глубоко переживаемый человеком и природой период, который Пастернак позже назовет «страшным промежутком» [Пастернак 2005, IV, 546] (далее при цитировании данного издания в тексте указаны том и страница в круглых скобках) - «от страстного четверга вплоть до страстной субботы» (IV, 517). На его центр - страстную пятницу - приходятся болезнь и предсмертные мучения архиерея (и, по всей вероятности, умершего в страстную субботу Николая из «Святою ночью»), К страстной пятнице полностью относится и действие «Студента», герою которого «казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились особенно мрачно» [Чехов 1974-1982, VIII, 306].
Лежащему в тифу Юрию Андреевичу Живаго (вспомним, что и герой чеховского «Архиерея» умирает от брюшного тифа) грезится, что он пишет поэму «Смятение»: «Он пишет поэму не о воскресении и не о положении во гроб, а о днях, протекших между тем и другим. <...> Он всегда хотел написать, как в течение трех дней буря черной червивой земли осаждает, штурмует бессмертное воплощение любви, бросаясь на него своими глыбами и комьями, точь-в-точь как налетают с разбега и хоронят под собою берег волны морского прибоя. Как три дня бушует, наступает и отступает черная земная буря.
И две рифмованные строчки преследовали его:
Рады коснуться и
Надо проснуться.
Рады коснуться и ад, и распад, и разложение, и смерть, и, однако, вместе с ними рада коснуться и весна, и Магдалина, и жизнь. И - надо проснуться. Надо проснуться и встать. Надо воскреснуть» (IV, 206; курсив здесь и далее наш - М.Г., А.М.\
Ближе всего к конспективной записи так и не написанной поэмы - вторая «Магдалина» («У людей пред праздником уборка...»), в финале которой даны те самые трое суток богооставленное™ с их абсолютной пустотой:
Но пройдут и эти трое суток, И столкнут в такую пустоту, Что за этот страшный промежуток Я до воскресенья дорасту (IV, 546).
Именно об этом ощущении пустоты, переживаемом всей природой, идет речь в первых абзацах чеховского «Студента»: «Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку»; «Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно»; «Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрее, чем надо»; «И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод; такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом...» [Чехов 1974-1982, VIII, 306].
В то же время роман дает основания предполагать, что «Магдалина» связана не только с замыслом поэмы «Смятение», но и со значительно более поздним эпизодом - монологом Симушки Тунцевой, обращенным к Ларе: «Существует спор, Магдалина ли это или Мария Египетская, или какая-нибудь другая Мария. Как бы то ни было, она просит Господа: “Раз- реши долг, якоже и аз власы”. То есть “отпусти мою вину, как я распускаю волосы”. Как вещественно выражена жажда прощения, раскаяния! Можно руками дотронуться» (IV, 411). В этой возможности прикоснуться к чуду (вспомним первую строку поэмы «Смятение» - «Рады коснуться») также, вероятно отразился опыт чеховского студента, пережитый в «страшный промежуток» страстной пятницы: «Прошлое, думал он, связано с настоящим единой цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой» [Чехов 1974-1982, VIII, 309].
Атмосферу трех чеховских рассказов едва ли не более других вбирает в себя стихотворение «На Страстной», написанное «по-чеховски просто и глубоко» [Вильмонт 1989, 129]. Занимающее символическое третье место в тетради Живаго, оно представляет собой не воспроизведение евангельского сюжета, а описание земли, переживающей умирание и воскресение Христа, фиксирует ту высшую точку природного и евангельского цикла, в которой «смерть можно будет побороть / Усильем воскресенья» (IV, 518). Именно здесь сюжет страстной недели «разыгран самой природой», а «природа вместе с человечеством переживает в действии ключевой момент христианской культуры» [Козлов, Мирошниченко 2014, 390].
Взаимодействие «На Страстной» с русской поэтической традицией отмечено относительно редким для Пастернака прямым цитированием: строки «Что звездам в мире нет числа, / И если бы земля могла, / Она бы Пасху проспала / Под чтение псалтири» отсылают к строкам ломоносовской оды: «Открылась бездна звезд полна; / Звездам числа нет, бездне дна» [Ломоносов 1950-1983, VIII, 120]. Сопоставление полемическое: у Ломоносова речь идет о северном сиянии как проявлении Божия величества, не зависящего от земных дел, у Пастернака - о непосредственной реакции неба на переживаемые им евангельские события. Этот «переход от космической панорамной обобщенности взгляда на мир к мгновенному проникновению во внутренний духовный мир лирического героя» [Магомедова 1990, 419] кажется близким не процитированному Ломоносову, а неназванному Чехову, в частности - общей атмосфере рассказа «Святою ночью», в котором в таинство пасхальной ночи последовательно включаются воды разлившейся реки, звезды, деревья, и только затем - люди. Весеннее половодье оказывается в этом контексте не природным фоном пасхальной недели, а ее содержанием, сходным с радостью услыхавшей благую весть толпы: «Разгулявшаяся вешняя вода перешагнула оба берега и далеко затопила оба побережья, захватив огороды, сенокосы и болота...» [Чехов 1974-1982, V, 92]. У Пастернака разлив ограничен днями «страшного промежутка» и подготавливает его грядущее преодоление:
И со Страстного четверга
Вплоть до Страстной субботы Вода буравит берега И вьет водовороты (IV, 517).
Звезды в чеховском рассказе также готовы немедленно откликнуться на совершающееся таинство. «Было темно, но я все-таки видел и деревья, и воду, и людей... Мир освещался звездами, которые всплошную усыпали все небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звезд. Буквально некуда было пальцем ткнуть. Тут были крупные, как гусиное яйцо, и мелкие, с конопляное зерно... Ради праздничного парада вышли они на небо все до одной, от мала до велика, умытые, обновленные, радостные, и все до одной тихо шевелили своими лучами. Небо отражалось в воде; звезды купались в темной глубине и дрожали вместе с легкой зыбью...» [Чехов 1974-1982, V, 92]. Здесь, как и впоследствии у Пастернака, звезды переживают главное событие евангельской истории - победу над смертью - как относящееся непосредственно к ним. В напряженное ожидание благой вести включен и колокольный звон, связанный не с реальными действиями звонаря, а с реакцией самой земли на совершающееся чудо:
Еще земля голым-гола, И ей ночами не в чем Раскачивать колокола И вторить с воли певчим (IV, 517).
«Точно в ответ на его крик, с того берега донесся протяжный звон большого колокола. Звон был густой, низкий, как от самой толстой струны контрабаса: казалось, прохрипели сами потемки. Тотчас же послышался выстрел из пушки. Он прокатился в темноте и кончился где-то далеко за моей спиной. Мужик снял шляпу и перекрестился.
- Христос воскрес! - сказал он.
Не успели застыть в воздухе волны от первого удара колокола, как послышался другой, за ним тотчас же третий, и потемки наполнились непрерывным, дрожащим гулом» [Чехов 1974-1982, V, 94]. Подобным образом описывается пасхальный колокольный звон и в «Архиерее»: «А на другой день была Пасха. В городе было сорок две церкви и шесть монастырей; гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над городом, не умолкая, волнуя весенний воздух; птицы пели, солнце ярко светило» [Чехов 1974-1982, X, 201]. Мир, изображенный Чеховым, а затем Пастернаком, охвачен тревогой и радостью, которые постепенно передаются от природы людям: «Беспокойство и бессонницу хотелось видеть во всей природе, начиная с ночной тьмы и кончая плитами, могильными крестами и деревьями, под которыми суетились люди. <.. > Молитв вовсе нет, а есть какая-то детски-безотчетнаярадость, ищущая предлога, чтобы только вырваться наружу и излиться в каком-нибудь движении, хотя бы в беспардонном шатании и толкотне <...>. Царские врата во всех приделах открыты настежь, в воздухе около паникадила плавают густые облака ладанного дыма; куда ни взглянешь, всюду огни, блеск, треск свечей...» [Чехов 1974-1982, V, 92].
Сходство пастернаковского стихотворения и чеховского рассказа обусловлено, конечно, тождеством описываемых реалий. И все же у Пастер-274
нака эти реалии даны именно в чеховском эмоциональном ключе, когда природа тревожно переживает предстоящее чудо воскресения и включает человека в его беспокойное ожидание:
И взгляд их ужасом объят, Понятна их тревога.
Сады выходят из оград, Колеблется земли уклад: Они хоронят Бога (IV, 417).
Не менее тесно связан с чеховским контекстом «Гефсиманский сад», сюжет которого не просто восходит к общему со «Студентом» евангельскому источнику, но непосредственно перекликается с рассказом. В обоих произведениях речь идет о событиях одной ночи - со страстного четверга на страстную пятницу - и действуют одни и те же евангельские персонажи: Иисус, Иуда, апостол Петр, ученики Христа. В основе сюжета обоих произведений лежат предельно конкретно изображенные и осмысленные события последней земной ночи Иисуса, хотя акценты в них расставлены по-разному: в «Студенте» - на тройном отречении Петра; в «Гефсиманском саде» - на молении Иисуса о чаше и его аресте. Как в «Студенте», так и в «Гефсиманском саде» события показаны через восприятие человека, точно знающего, как именно все происходило. В обоих произведениях (по крайней мере до финального абзаца / строфы) внимание акцентируется не на вечном смысле притчи, а на описании ситуации: студент рассказывает, что работники «находились около огня», а Петр «пошел со двора и горькогорько заплакал» [Чехов 1974-1982, VIII, 308]. Еще более конкретно - за счет топонимов - описание в «Гефсиманском саде»: «Дорога шла вокруг горы Масличной, / Внизу под нею протекал Кедрон»; «В конце был чей-то сад, надел земельный»; «Лужайка обрывалась с половины» (IV, 547).
Поступки героев мотивированы их физическим состоянием: Иван Великопольский мерзнет и рассказывает о том, что точно так же апостол Петр замерз и грелся у костра вместе с работниками, он хотел спать, «истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели» [Чехов 1974-1982, VIII, 307]. Подобное, едва ли не цитирующее чеховский рассказ описание будет и в стихотворении Пастернака: «ученики, осиленные дрёмой, валялись в придорожном ковыле»; «разлеглись, как пласт». (IV, 548) Евангельская история - и у Чехова, и у Пастернака - совершается с обычными людьми: они слабы душой и телом, мерзнут, хотят спать, и даже предательство совершают не в силу врожденной подлости или соображений материальной выгоды, а из-за физической усталости. Как обычный человек переживает свои последние земные часы и Христос: студент рассказывает, что Иисус «после вечери смертельно тосковал в саду и молился» [Чехов 1974-1982, VIII, 307] - и точно так же (а возможно и цитируя Чехова) описывает его состояние Пастернак: «душа скорбит смертельно»; «смягчив молитвой смертную истому» (IV, 548).
Природа в «Студенте» переживает события евангельской истории дважды: непосредственно в ходе предательства Иисуса и вечером страстной пятницы вместе с Иваном Великопольским. Лейтмотивами, соединяющими два времени, становятся огонь костра и ветер: «Погода вначале была хорошая, тихая. <...> Но когда стемнело в лесу, некстати подул с востока холодный пронизывающий ветер, все смолкло» [Чехов 1974-1982, VIII, 306]. Н.П. Вильмонт предполагает, что эти строки Б.Л. Пастернак вольно или невольно цитирует в «Рождественской звезде»: «...Все злей и свирепей дул ветер из степи...» (IV, 537).
Нам же представляется важной еще одна перекличка Пастернака с Чеховым. Рискнем предположить, что именно к чеховским рассказам «Святою ночью» и «Студент» восходит финальный образ «Гефсиманского сада»:
Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты, Ко мне на суд, как баржи каравана, Столетья поплывут из темноты (TV, 549).
В рассказе «Святою ночью» ситуация паромной переправы обрамляет рассказ об усопшем Николае: «Я стоял на берегу Голтвы и ждал с того берега парома» [Чехов 1974-1982, V, 92] - «Он да еще какой-то мужичок <.. > поналегли на канат, дружно крякнули, и паром тронулся с места. Мы поплыли, беспокоя на пути лениво подымавшийся туман» [Чехов 1974-1982, V, 103]. В финале «Студента» герой, перебравшись на пароме, начинает воспринимать историю как притчу, наделенную высшим смыслом: «Л когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле...» [Чехов 1974-1982, VIII, 309].
Герои трех чеховских рассказов - умерший Николай, рассказывающий о нем послушник Иероним, студент Иван Великопольский, архиерей - обладают важнейшей в контексте пастернаковского романа способностью мыслить в исторических категориях и переживать евангельскую историю как имеющую непосредственное отношение к сегодняшнему дню. Предполагает она и особого рода эмпатию - студент, рассказывая о замерзшем апостоле Петре, ежится от холода. Сходный тип героя, «ум и талант» которого, по слову Тони, «заняли место начисто отсутствующей воли» (IV, 414), Пастернак воплотит в Живаго. Способность глубокого сопереживания рождает слезы, которые - ни у героев чеховских рассказов, ни в стихах Юрия Андреевича - не связаны с какой бы то ни было экзальтацией. Это отклик на божие присутствие в мире, на высшую осмысленность бытия. «Теперь студент думал о Василисе: если он заплакала, то, значит, все, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение» [Чехов 1974-1982, VIII, 308]. Именно слезы Василисы наводят его на мысли о всеобщей связи явлений, о той «встрече» Василисы и Лукерьи с Петром, которой он невольно способствовал [Тюпа 1989, 117]. «Отчего горько плакать хочется?» [Чехов 1974-1982, V, 96] - вопрошает случайного попутчика Иероним. Трижды плачет герой «Архиерея», и в его слезах сливаются осознание близкой смерти, радость, связанная с пасхальной службой, волнение, слабость душевная и физическая. Слезы в пастернаковской лирике - в том числе и стихотворениях живаговского цикла - часто связаны с религиозным сознанием героев, непосредственно столкнувшихся с таинством жизни и смерти: «Шарю и не нахожу сандалий, / Ничего не вижу из-за слез» («Магдалина»; IV, 546), «О боже, волнения слезы / Мешают мне видеть тебя» («В больнице»; II, 119). Той же природы - «заплаканные лица» и рыданье «вдосталь» в пасхальную ночь («На Страстной»),
Из героев трех чеховских рассказов Юрий Андреевич Живаго, кажется, стоит ближе всего к иеродьякону Николаю («Святою ночью») - всеми слегка презираемому, пишущему акафисты, которых никто, кроме послушника Иеронима, не ценит и не понимает, наделенному «умом <.. > и едва сдерживаемой детской восторженностью» [Чехов 1974-1982, V, 102]. Возможно, и сочиняемые им акафисты - преддверие написанных позже евангельских стихов из живаговского цикла. Сходным - при глубочайшей скромности обоих - оказывается и масштаб личности каждого из них: «Умри я или кто другой, оно бы, может, и незаметно было, но ведь Николай умер! Никто другой, а Николай! Даже поверить трудно, что его уж нет на свете! <...> Добрая душа! Боже, какая добрая и милостивая!» [Чехов 1974-1982, V, 96]. Со сходным чувством восхищения Лара размышляет о Живаго: «Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения, прелесть обнажения, это пожалуйста, это мы понимали. А мелкие мировые дрязги вроде перекройки земного шара, это извините, увольте, это не по нашей части. Прощай, большой и родной мой, прощай, моя гордость, прощай, моя быстрая глубокая реченька, как я любила целодневный плеск твой, как я любила бросаться в твои холодные волны» (IV, 498).
Еще одна интонационная параллель возникает, когда Лара у гроба Живаго думает: «Как жаль все-таки, что его не отпевают по церковному! Погребальный обряд так величав и торжественен. Большинство покойников недостойны его. А Юрочка такой благодарный повод! Он так всего этого стоил...» (IV, 496). Близким образом думает о предстоящем пасхальном каноне Иероним: «Сейчас запоют пасхальный канон... - сказал Иероним, - а Николая нет, некому вникать...» [Чехов 1974-1982, V, 99].
Акафисты Николая, которые он писал «для себя», так и не были напечатаны: «Нынче, сударь, новые писания никто не уважает! В монастыре этим у нас никто не интересуется» [Чехов 1974-1982, V, 99]. Разумеется -но уже не по равнодушию монастырской братии, а по условиям советского времени - не может быть напечатана и «тетрадь Юрьевых писаний», но половину ее Гордон и Дудоров «знают наизусть», а ее чтение дарит им «счастливое, умиленное спокойствие за этот святой город и за всю землю» (IV, 514).
Тень чеховского Николая ложится не только на Юрия Живаго, но отчасти и на его дядю Николая Николаевича Веденяпина, расстриженного по собственному прошению священника и христианского мыслителя. «Говоря об истоках религиозных мотивов в поэзии и мировоззрении Живаго, нужно помнить о некоторых принципиально важных высказываниях, принадлежащих Николаю Николаевичу Веденяпину и некоторым его последователям» [Морева, Тюпа 2014, 419]. Отношения между иеродьяконом Николаем и послушником Иеронимом становятся, как нам представляется, возможным отдаленным прообразом отношений между Николаем Веденяпиным и Юрием Живаго. Важно, что Веденяпин, будучи родным дядей, не усыновляет осиротевшего Юру, но определяет координаты его духовной жизни: «<...> дядя <...> говорил ему о Христе и утешал его» (IV, 8). В отличие от чеховского героя, Николай Веденяпин не пишет акафистов (как и стихов), но именно его понимание жизни оказывает определяющее влияние на племянника: «Юра понимал, насколько он обязан дяде общими свойствами своего характера» (IV, 67).
Пишущий стихи, близкие по духу чеховским рассказам, Живаго парадоксальным образом записывает в Барыкине, что больше всего ценит в Чехове (и Пушкине!) «застенчивую неозабоченность насчет таких громких вещей, как конечные цели человечества и их собственное спасение» (IV, 284). Едва ли не самой привлекательной чертой чеховского «богословия» оказывается, вероятно, для Пастернака и его героя, его отдаленность от какой бы то ни было завершенной доктрины. Не случайно А.П. Чудаков, отталкиваясь от чеховского высказывания «Между есть бог и нет бога лежит, целое громадное поле» [Чехов 1974-1982, XVII, 224], называл писателя «человеком поля» [Чудаков 1996], а о пути архиерея писал: «<...> он шел по полю абсолютной свободы, отряхнув пред ликом вечности со своих ног все, что связывало его: сан, условности, житейскую суету» [Чудаков 1996]. И здесь, конечно, нельзя не вспомнить финал пастернаковского «Гамлета»: «Жизнь прожить - не поле перейти», - не восходящий к «Архиерею», но резонирующий с ним.
Разумеется, многочисленные переклички между стихотворениями Юрия Живаго и чеховскими рассказами нельзя счесть случайными. За ними стоит близкое понимание истории, в которую Евангелие включено как точка отсчета, а бессмертие - как высшая цель человечества. «Вы не понимаете, - говорит Воскобойникову Веденяпин, - что можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего он, и в то же время знать, что человек живет не в природе, а в истории, и что в нынешнем понимании она основана Христом, что Евангелие есть ее обоснование. А что такое история? Это череда работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению» (IV, 13). Близкую к этому мысль - хоть и без непосредственной опоры на Евангелие - высказывает герой чеховского рассказа «Дом с мезонином» в споре с Лидой Волчаниновой: «Призвание всякого человека в духовной деятельности - в постоянном искании правды и смысла жизни. <.. > Как иногда мужики миром починяют дорогу, так и все мы, сообща, миром, искали бы правды и смысла жизни и - я уверен в этом - правда была бы открыта очень скоро, человек избавился бы от этого постоянного мучительного, угнетающего страха смерти, и даже от самой смерти» [Чехов 1974-1982, IX, 186]. История -ив рассказах Чехова, и в романе Пастернака и включенных в него стихах героя - осмыслена как «духовное пространство, в котором достигается главная задача человечества - преодоление смерти» [Поливанов 2015, 9].
Список литературы О чеховском фоне "Стихотворений Юрия Живаго" Б.Л. Пастернака
- Альми И.Л. О новелле А.П. Чехова "Архиерей" // Альми И.Л. О поэзии и прозе. СПб., 2002. С. 470-482.
- Вильмонт Н.Н. О Борисе Пастернаке: Воспоминания и мысли. М., 1989.
- Гельфонд М.М., Мухина А.А. Чехов и "чеховское" в романе Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго" // Новый филологический вестник. 2018. № 2. С. 214-225.
- Есаулов И.А. Пасхальность русской словесности. М., 2004.
- Козлов В.И., Мирошниченко О.С. Жанровый репертуар поэта Живаго // Поэтика "Доктора Живаго" в нарратологическом прочтении. Коллективная монография / под ред. В.И. Тюпы. М., 2014. С. 376-410.
- Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений: в 11 т. М.; Л., 1950-1983.
- Магомедова Д.М. Соотношение лирического и повествовательного сюжета в творчестве Пастернака // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1990. Т. 49. № 5. С. 414-419.
- Морева Ю.С., Тюпа В.И. Двойное авторство "Стихотворений Юрия Живаго" // Поэтика "Доктора Живаго" в нарратологическом прочтении. Коллективная монография / под ред. В.И. Тюпы. М., 2014. С. 411-419.
- Пастернак Б.Л. Полное собрание сочинений: в 11 т. Т. 4. М., 2005.
- Пастернак Е.Б. Борис Пастернак. Биография. М., 1997.
- Поливанов К.М. "Доктор Живаго" как исторический роман. Тарту, 2015.
- Сендерович С.Я. К генетической эйдологии "Доктора Живаго". 1: Доктор Живаго и поэт Чехов // Russian Language Journal / Русский язык. 1991. Vol. 45, № 150. P. 3-16. URL: http://www.jstor.org/stable/43669659 (дата обращения 14.05.2019).
- Сендерович С.Я. Постскриптум к статье о Докторе Живаго и поэте Чехове // Russian Language Journal / Русский Язык. 1991. Vol. 45. № 151/152. P. 253-254. URL: http://www.jstor.org/stable/43669675 (дата обращения 14.05.2019).
- Собенников А.С. Чехов и христианство. Иркутск, 2001.
- Тамарченко Н.Д. Усилие воскресения ("Студент" А.П. Чехова в контексте русской классики) // Литературное произведение: слово и бытие. К 60-летию М.М. Гиршмана. Донецк. 1997. С. 37-54.
- Тюпа В.И. Художественность чеховского рассказа. М., 1989.
- Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. М., 1974-1982.
- Чудаков А.П. "Между "есть Бог" и "нет Бога" лежит целое громадное поле..". // Новый мир. 1996. № 9. С. 186-192. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_ mi/1996/9/chudak-pr.html (дата обращения 20.05.2019).