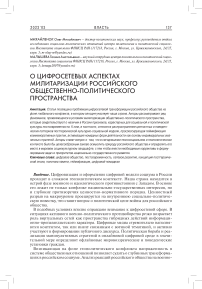О цифросетевых аспектах милитаризации российского общественно-политического пространства
Автор: Михайленок О.М., Малышева Г.А.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам цифросетевой трансформации российского общества на фоне глобального конфликта, в котором сегодня участвует наша страна. Авторы рассматривают ряд феноменов, проявляющихся в условиях милитаризации общественно-политического пространства, которые свидетельствуют о наличии в России признаков, характерных для социальной и политической культуры постсовременности. К ним, в частности, относятся распространение ценностных и поведенческих паттернов постгероической культурно-социальной модели, прогрессирующая геймификация коммеморативных практик, активизация номадных форм деятельности как основы индивидуальных жизненных стратегий. Авторы ставят вопрос о том, что в сегодняшнем техносоциальном и геополитическом контексте было бы целесообразным заново осмыслить природу российского общества и определить его место в мировом социокультурном ландшафте, с тем чтобы внести необходимые коррективы в формулирование задач и приоритетов национально-государственного развития.
Цифровое общество, постсовременность, сетевое развитие, концепция постгероической эпохи, политика памяти, геймификация, цифровой номадизм
Короткий адрес: https://sciup.org/170200503
IDR: 170200503 | DOI: 10.31171/vlast.v31i3.9646
Текст научной статьи О цифросетевых аспектах милитаризации российского общественно-политического пространства
В подобных условиях вполне оправдано внимание к цифросетевой сфере. В ситуациях активного военно-политического противоборства резко возрастает роль виртуальных сетей как пространства гибридных действий информационно-пропагандистского характера. Цифровые медиа стремительно наполняются контентом, так или иначе связанным с военной тематикой, и активно участвуют в формировании публичного дискурса. Политическая борьба и реализация манипулятивных стратегий в онлайновой цифровой среде в значительной мере определяют офлайновые мировоззренческие и поведенческие установки граждан.
Возникающая на фоне геополитического конфликта напряженность в системе общественных отношений позволяет судить о глубинных трансформациях в российском социуме. Анализ реакций российского общества на военно- политические вызовы может дать представление о его нынешнем состоянии, а также о природе и динамике протекающих в нем процессов.
Теоретические рамки исследования, его цель и методы. В теоретическом плане исследование ориентировано по двум направлениям, каждое из которых имеет выходы на российскую действительность наших дней.
Объектом первого из них служит проблематика влияния войны на социум и, в частности, вопрос о том, как работают институциональные, социокультурные, демографические и иные факторы в ситуациях военно-политического характера. Второй проблемный комплекс связан с формирующимися теоретическими представлениями о цифровом обществе. Научные разработки в этом направлении сконцентрированы главным образом на анализе техногу-манитарных аспектов цифрового социума. При этом в центре внимания оказываются механизмы воздействия новейших технологий на различные сферы социальной и политической жизни. Мы же считаем, что не меньшее значение имеет исследование социетальных характеристик цифрового общества, т.е. тех фундаментальных признаков, которые помогли бы типологизировать его как особую систему социальных отношений и определить его место и роль в поступательном общественном развитии.
В этом смысле, по нашему мнению, было бы полезно обратиться к таким направлениям социальных наук, как сетевая теория, постструктурализм и концепт постмодерна (постсовременности). Хотя теория постмодерна считается прежде всего принадлежностью культурологии и социальной философии, тем не менее социальная модель, которую можно назвать постмодернистской, обладает известной суммой релевантных характеристик, позволяющих сопоставлять ее с другими типами общества, в т.ч. с обществом «цифры». С последним, в частности, ее роднит сетевая природа и информационно-коммуникационный функционал. Прослеживание этих тождеств и аналогий представляется перспективной задачей и одним из новых вызовов для научного осмысления социальных процессов.
Методологическую основу работы составляют такие исследовательские приемы, как наблюдение, анализ и синтез, а также использование вторичных статистических данных из открытых источников.
Некоторые результаты исследования. Российское общество сегодня переживает травматичную ситуацию столкновения с реальностью военного конфликта. Вместе с тем это не избавляет от необходимости решения задач текущей национально-государственной повестки, включая комплексный проект цифровой трансформации экономики и социума. В подобном контексте важно не только уяснить, какое воздействие на динамику цифрового перехода может оказать мобилизация национальных ресурсов на цели военного характера, но и попытаться оценить, в какой степени собственно цифровой фактор способен обусловить общественные реакции, связанные с милитаризацией повседневного существования российских граждан.
Для поиска ответа на этот вопрос нам кажется целесообразным обратиться к концепции постмодерна (постсовременности), которая на фоне событий последнего времени актуализирует свой научный потенциал.
Переход к постсовременному обществу подразумевает:
– критику традиционного государственно-институционального устройства вплоть до постановки вопроса об «отмене» национального государства как такового;
– завершение эпохи «больших идеологий» и «больших нарративов», фраг- ментацию политико-идеологического пространства;
-
– трансформацию ценностей и отказ от ценностной матрицы традиционных обществ;
-
– индивидуализацию и атомизацию социума, консьюмеризм как одну из главных характеристик социального поведения;
-
– тотальную медиатизацию общественной жизни в результате проникновения цифровых технологий в гуманитарную сферу;
-
– виртуализацию социальных связей, уход в цифровые сети и образование «второй», онлайновой реальности социальных и политических отношений, которая сосуществует с реальностью физической и частично конвергирует с нею;
– «текучесть», изменчивость и множественность индивидуальных и групповых социальных идентичностей [Бызов 2012; Де Бовер, Оберемко, Кристалл 2017].
Особое значение с точки зрения используемого в данной работе подхода следует придавать соотношению таких понятий, как постсовременность, сете-визация и цифровизация. Между постсовременным обществом и цифровым имеется немало точек соприкосновения, которые выражаются в роли онлайновой коммуникационной среды, расширении социальных функций медиа, гибридизации реальности и прочих типологических признаках. Благодаря прогрессу в области высоких технологий цифровизация усиливает сетевую природу постсовременного общества, поэтому присущие ему явления и процессы мы обозначаем как цифросетевые.
В сегодняшнем общественно-политическом контексте многие социальные коллизии в России связаны с феноменом консолидации системы легитимного насилия и вертикальной архитектуры власти в качестве институционального ответа государства на угрозу военного характера. На подобный эффект указывает, в частности, Ч. Тилли, анализируя в исторической ретроспективе воздействие военно-политического фактора на эволюцию государственных институтов [Тилли 2009: 279, 282, 322]. Необходимо заметить, что данный феномен вступает в известное противоречие с институциональной логикой цифрового социума, развитие которого в значительной, хотя и далеко не полной мере проходит в русле сетевой ризомной парадигмы.
Чтобы раскрыть тему милитаризации российского социально-политического пространства в условиях нынешнего противостояния с объединенным Западом, полезно обратиться к работам двух исследователей, уделяющих особое внимание вопросам военной истории, – Г. Мюнклера и Э. Люттвака [Мюнклер 2018; Люттвак 2018], которые независимо друг от друга сформулировали теорию «постгероической» культурно-социальной модели. Характеризуя военно-политические конфликты конца XX – начала XXI в., они отмечают, что эпоха, в центре которой находилась «система героических ценностей» и господствовал «героический тип» воина [Мюнклер 2018: 141, 145], моральным долгом и высшей доблестью которого было пожертвовать жизнью ради общего блага, ушла в прошлое. На смену ей пришла эра рационализма, «постгероических» обществ и войн принципиально нового типа.
Постгероизм, согласно этой теории, – удел индивидуалистических общественных формаций, «стареющих» социумов, привыкших к материальному благополучию и потому психологически уязвимых, не готовых рисковать жизнями относительно немногочисленного молодого поколения и идти на чрезмерные жертвы ради военных целей, пусть даже они преподносятся пропагандистским мейнстримом как «оправданные» и «справедливые». Жертва воина-героя во имя спасения «общего», т.е. коллективных интересов, символически выраженных в виде интересов национального государства, в постгероической культурной модели рассматривается как непропорциональная, устаревшая и неприемлемая социальная норма.
Оптимальный тип войны с точки зрения подобной культуры – победа над противником с минимальными потерями со своей стороны в результате дистанционных действий с использованием передовой техники – боевых беспилотников, сверхточного оружия дальнего боя и прочих новейших достижений в военно-технологической сфере. При этом считается целесообразными заменять там, где возможно, регулярную армию субгосударственными формированиями, включая наемничество и услуги частных военных компаний [Мюнклер 2018: 150; Люттвак 2018: 103-104].
В социокультурном плане общество с доминирующими постгероическими характеристиками может трактоваться как общество консьюмеристского типа, в котором превалируют гедонистические ценностные установки, а коллективистские начала маргинализированы, т.е. как общество, которое обладает выраженными культурными признаками постмодерна.
В этой связи закономерен вопрос: к какому типу можно отнести современный российский социум с точки зрения дихотомии героической и постгероической культурных моделей? Очевидно, что по окончании советской эпохи Россия осталась страной без «большой идеологии». Столь же очевидны и нынешняя идейная и мировоззренческая неоднородность российского общества, наличие в нем точек несогласия, включая кардинальные расхождения по ряду базовых принципов социально-политического устройства.
В свою очередь, анализ превалирующего в российском социуме набора ценностей, которые выявляются в ходе социологических замеров, также дает основания для неоднозначных оценок. Так, например, исследователи, которые концентрируют усилия на изучении онлайнового контента, приходят к выводу, что в России «в условиях постмодерна и исторической беспроектности» ключевой тенденцией становится «сдвиг в сторону индивидуализма» [Николайчук, Янгляева, Якова 2022: 111]. Этот тренд еще более заметен, если анализировать ценностные ориентации наших сограждан в межпоколенческом разрезе.
По многим параметрам молодые россияне (поколение миллениалов) демонстрируют показатели, разительно отличающиеся от взглядов и установок представителей старших возрастных групп, включая отношение к событиям в мире и внутри страны. Социологи утверждают, что для миллениалов характерна приверженность постматериалистическим ценностям самореализации, личного успеха и свободы самовыражения. Они чрезвычайно зависимы от существования «в цифре» и не склонны доверять официальной информации, избегая при этом политизированных форм активизма. Хотя молодежь не является однородной категорией граждан, ей в большей степени, чем кому-либо, свойственны конформизм, политическая индифферентность, а также стремление вести гедонистический образ жизни1.
В то же время, как свидетельствует статистика, генерационные различия и сохранение идейных расколов в российском обществе пока не в состоянии изменить его совокупный ценностный вектор. Жители страны в целом выражают высокий уровень поддержки армии (73% на декабрь 2022 г.) и негатив- ное отношение к отказу от выполнения гражданского долга по защите Родины (уклонение от воинской службы для большинства россиян равнозначно отсутствию патриотизма)1.
Ориентируясь на данные социометрии, можно сказать, что с точки зрения теории постгероической эпохи российское общество является гибридным. В нем присутствуют признаки как героической, так и постгероической культурной парадигмы.
В этой связи необходимо учитывать, что общества постгероического типа «готовы принимать идентичность воина лишь в виде игровой модели», которая распространяется не только на популярную культуру и цифровые медиа, но и на «всю систему военно-патриотического воспитания и военно-исторической пропаганды» [Пахалюк 2023: 4]. Это заставляет вносить коррективы в такое важное направление символической политики властных элит, как политика памяти, которая, по мнению аналитиков, сегодня служит одним из основных механизмов легитимации правящего режима и формирования национальногосударственной макроидентичности в России [Малинова 2015: 11, 23].
Геймификация, т.е. распространение игровой логики на неигровые сферы социальной и политической жизни, являясь приметой постсовременности, становится все более востребованной в коммеморативных практиках, особенно в их нетрадиционных, цифровых направлениях. Об этом говорит рост популярности многопользовательских компьютерных игр военной и военноисторической тематики, посредством которых производится форматирование сознания пользователей и внедрение в массовые умонастроения определенных смыслов, символов и идейных установок [Федорченко 2018]. В настоящее время видеоигры рассматриваются как инструмент «мягкой силы» и эффективная форма политической пропаганды и контрпропаганды, поддержка которой осуществляется на официальном уровне2. Важно не забывать, что борьба, которую сегодня ведет Россия со странами глобалистского блока, – это в т.ч. и борьба против продвигаемого Западом проекта исторического ревизионизма и перекраивания коллективной памяти в антироссийском духе.
По мере нарастания тенденций к милитаризации медиасферы и пространства публичной политики высвечивается еще один существенный момент. С одной стороны, в силу колоссальной общественной роли СМИ и онлайновых социальных медиа происходит симулякризация войны, о которой, в частности, говорит Ж. Бодрийяр [Бодрийяр 2016]. Она превращается в объект информационного манипулирования, которым можно управлять при помощи картинки на телевизионном экране или дисплее цифрового гаджета.
Вместе с тем вступление военного конфликта в активную фазу и нарастание его социальных эффектов, меняющих повседневную жизнь граждан, работают на противоположную тенденцию – на прорыв этой симулякризированной медиареальности и возврат в мир реальности физической. А это вынуждает потребителей виртуального контента покидать зону индивидуального комфорта и пересматривать свои жизненные стратегии. Зачастую этот пересмотр ведется в русле процессов, которые можно описать с позиций теории цифрового кочевничества, сформулированной Ж. Делезом и Ф. Гваттари [Делез, Гваттари 2010].
Номадология не только является одним из философских направлений постструктурализма, но и непосредственно коррелирует с социальными и культурными реалиями цифрового общества. Кроме того, она находит своеобразное воплощение в сегодняшнем российском общественно-политическом контексте. Напомним, что цифровыми кочевниками называют людей, по характеру своей деятельности и ментальным установкам способных относительно легко менять местожительство и осуществлять трудовые функции без привязки к определенной территории, практически из любой точки мира, где есть связь с работодателем или заказчиком услуг через Интернет.
Цифровой вариант номадизма (цифровое кочевничество) как феномен постсовременности есть результат социотехнического развития. Посредством этой категории описывается поведение индивидуума в обществе, материальная база которого построена на высоких технологиях и структурирована по сетевому принципу. В философском смысле номадизм воплощает «текучесть», неопределенность и многовариантность бытия, что принято считать системным признаком постсовременности и общества постмодерна. Номад по своей природе антагонистичен государству и выступает в качестве сетевого социального агента.
Социокультурные характеристики цифровых номадов иллюстрируют как преимущества, так и риски постсовременного общественного устройства – от высокой социальной адаптивности, стремления полагаться на собственные силы, мобильности, открытости и гибкости экономических практик до духовной и ценностной «разукорененности», ослабления связей и культурного дистанцирования от «родительского» социального и мировоззренческого субстрата.
Определить точное число российских цифровых номадов методологически проблематично. Хотя феномен фриланса и дистанционной занятости приобрел в нашей стране, как и повсюду в мире, весьма широкое распространение, далеко не все из удаленных и самозанятых работников сознательно причисляют себя к цифровым кочевникам [Добринская 2020].
С началом СВО на Украине и объявлением частичной мобилизации цифровое кочевничество в России получило новый импульс. Как известно, некоторые наши сограждане сделали выбор в пользу миграции и покинули территорию страны. Наибольшее беспокойство вызывает утечка IT -специалистов (по данным Минцифры, число выехавших составило порядка 100 тыс. чел., или 10% общего числа сотрудников российских IT- компаний1) и ее возможные последствия для реализации национальных цифровых проектов. Российское руководство в этой связи принимает ряд мер, направленных на удержание технических кадров в экономическом периметре нашего государства.
Выводы. Изложенное выше показывает, что социокультурные эффекты актуальных процессов военно-политического характера целесообразно концептуализировать в контексте системной цифровой трансформации, которая сегодня определяет динамику изменений в социуме. Несмотря на в целом прикладной характер данного исследования, очерченный в нем круг проблем непосредственно связан с теоретизацией социального и культурного развития России последних лет. Узкоспециализированная тематика цифросетевых аспектов российской военно-политической ситуации помогает определить, в какой степени наше общество можно считать обществом постсовременного типа и какое место ему следует отвести в сложившемся на данный момент глобальном социокультурном ландшафте.
Отсюда вытекает еще одна исследовательская задача, которая заключается в том, чтобы уяснить, отвечает ли цифровое общество в России неким универсальным критериям или же отечественная цифровая социальная модель будет складываться как уникальный исторический опыт, обусловленный особенностями национального пути. От ответа на этот вопрос во многом зависит характер и направленность принимаемых стратегических решений относительно будущего нашей страны, ее граждан, сохранения духовно-ценностных основ российского общества и его цивилизационного своеобразия.
Список литературы О цифросетевых аспектах милитаризации российского общественно-политического пространства
- Бодрийяр Ж. 2016. Дух терроризма. Войны в заливе не было (пер. с фр. А. Качалова). М.: РИПОЛ классик. 224 с.
- Бызов Л.Г. 2012. Что нам несет постсовременность, всесокрушающая и хрупкая (рецензия на книгу: Гидденс Э. Последствия современности. М.: Праксис. 2011). - Социологические исследования. № 6(338). С. 148-151.
- Делез Ж., Гваттари Ф. 2010. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель. 895 с.
- Де Бовер А., Оберемко О.А., Кристалл Э. 2017. Когда обрываются связи: интервью с Зигмунтом Бауманом. - Социологический журнал. Т. 23. № 1. С. 156176. DOI 10.19181/8офш-.2017.23.1.5007.
- Добринская Д.Е. 2020. О феномене цифрового кочевничества. - ЭКО. № 2(548). С. 37-59. DOI 10.30680/ЕС00131-7652-2020-2-37-59.
- Люттвак Э.Н. 2018. Стратегия: Логика войны и мира. М.: Русский фонд содействия образованию и науке. 392 с.
- Малинова О.Ю. 2015. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. М.: РОССПЭН. 207 с.
- Мюнклер Г. 2018. Осколки войны: Эволюция насилия в XX и XXI веках. М.: Кучково поле. 384 с.
- Николайчук И.А., Янгляева М.М., Якова Т.С. 2022. Социокультурные аспекты приверженности россиян моделям коллективистского и индивидуалистического поведения: медиагеографические подходы в социологии. - Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Сер. Социальные науки. № 3(67). С. 101-113. DOI 10.52452/18115942_2022_3_101.
- Пахалюк К.А. 2023. Культурная травма и нормализация чрезвычайности. -СоциоДиггер. № 4. Вып. 1-2(24). Мобилизация. Вчера и сегодня. С. 3-7.
- Тилли Ч. 2009. Принуждение, капитал и европейские государства. 990—1992 гг. М.: ИД «Территория будущего». 328 с.
- Федорченко С.Н. 2018. Политические технологии в компьютерных играх как новый формат информационного воздействия. - Информационные войны. № 4(48). С. 85-97.