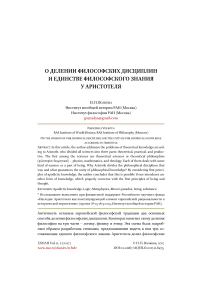О делении философских дисциплин и единстве философского знания у Аристотеля
Автор: Волкова Надежда Павловна
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 т.11, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрен круг проблем, связанных с делением теоретических наук у Аристотеля. Согласно Аристотелю, все науки делятся на три части, согласно тем целям, которые они себе ставят, а именно: на теоретические, практические и теоретические. Первыми среди них выступают науки теоретические, цель которых знание ради знания. Сам Аристотель называет их теоретическими философиями (φιλοσοφίαι θεωρητικαί), среди которых физика, математика и теология. Каждая из них имеет дело с сущностью или частью сущего, используя для его познания аподиктический метод доказательства. В своей статье автор ставит вопрос, каким образом возможно такое деление теоретических наук и что может гарантировать единство философского знания как такового. Автор приходит к выводу, что помимо указанных форм теоретического знания существует еще одна форма знания, которую Аристотель в «Метафизике» называет просто мудростью и которая занимается первыми принципами бытия и мышления. Именно она лежит в основании всего корпуса теоретических дисциплин.
Аристотель, аподиктическое знание, логика, метафизика, парадокс менона, сущее, сущность
Короткий адрес: https://sciup.org/147103520
IDR: 147103520 | DOI: 10.21267/AQUILO.2017.11.6475
Текст научной статьи О делении философских дисциплин и единстве философского знания у Аристотеля
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда «Наследие Аристотеля как конституирующий элемент европейской рациональности в исторической перспективе» (проект № 15-18-30005, Институт всеобщей истории РАН).
Античность оставила европейской философской традиции два основных способа деления философских дисциплин. Ксенократ наметил схему деления философии на три части – логику, физику и этику. Эта схема была подробным образом разработана стоиками, предложившими видеть в них три составляющие единого философского знания. Аристотель делил философские
ΣΧΟΛΗ Vol. 11. 2 (2017)
дисциплины иначе. Во-первых, он разделил все науки на теоретические, практические и творческие, согласно тем целям, которые они перед собой ставят. Теоретические науки получают знание ради знания, практические – знание ради действия, творческие – знание ради создания прекрасного. Первыми среди наук являются теоретические науки, или теоретические философии (φιλοσοφίαι θεωρητικαί), – физика, математика и теология. Логика1 в число философских наук не входит. Первым на это обратил внимание Александр Афродиссийский. Следуя Топике (163b9–11), где Аристотель называет логику инструментом философии, он назвал весь корпус логических работ Аристотеля Органоном . Таким образом оказалось, что логика предшествует философским наукам как инструмент мышления, но не входит в них как часть. Именно такой точки зрения придерживались перипатетики в споре со стоиками. Из античных комментаторов Аристотеля с ней спорит только неоплатоник Аммоний Гермий.2 В комментарии на «Первую Аналитику» (10.34– 11.14), он отмечает, что логика не может быть только инструментом философии. Он разделяет материю и форму доказательства. Если рассматривать силлогизм как пустую форму, то логика является инструментом познания, а если учитывать и материю силлогизма, то есть предмет доказательства, то логика будет частью той или иной философской дисциплины, в зависимости от предмета рассуждения. Почему Аристотель делит философские дисциплины именно таким образом и что обеспечивает единство философского знания? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся сначала к устройству теоретических наук. Теоретические философии отличаются друг от друга не способом обоснования, – способ доказательства все тот же правильный силлогизм, – а изучаемым предметом:
…имеются три теоретических науки [ἐπιστήµη]: математика (µαθηµατική), физика (φυσική), теология (θεολογική) (совершенно очевидно, что если где-то существует божественное, то ему присуща именно такая природа), и достойнейшее знание должно иметь своим предметом достойнейший род [сущего]3 ( Met . E 1026а18–22).
Каждая наука имеет своим предметом один из родов сущего. Физика занимается чувственно воспринимаемыми сущностями, которые содержат в себе начало движения и покоя,4 математика – математическими сущностями, которые неподвижны, но не существуют самостоятельно, и, наконец, теология имеет дело с неподвижной и существующей самостоятельно сущностью: «В самом деле, учение о природе занимается предметами, существующими самостоятельно, но не неподвижными; некоторые части математики исследуют хотя и неподвижное, однако, пожалуй, существующее не самостоятельно, а как относящееся к материи; первая же философия исследует самостоятельно существующее и неподвижное».5 Аристотель называет теологию первой философией потому, что предмет, с которым она имеет дело, божество, наилучший, но нужно отметить, что в этом фрагменте он не вполне уверен в его действительном существовании.
Каждая теоретическая наука берется изучать только некоторую сущность или часть сущего. Но как это возможно? Во-первых, чтобы разделить сущее на части, надо, сначала, ответить на вопрос, что такое просто сущее, а затем есть ли у него части, на которые оно могло бы быть разделено. Во-вторых, нужно дать отчет в том, что предмет, с которым имеет дело наука, действительно существует:
Но все эти науки имеют дело с одним определенным сущим и одним определенным родом, которым они ограничиваются, а не с сущим вообще и не поскольку оно сущее (οὐχὶ περὶ ὄντος ἁπλῶς οὐδὲ ᾗ ὄν), и не дают никакого обоснования для сути предмета, а исходят из нее: одни [науки] делают это ясным с помощью чувственного восприятия, другие принимают как предпосылку, что это есть (τὸ τί ἐστιν), таким образом, они с большей или меньшей строгостью доказывает то, что само по себе присуще тому роду, с которым они имеют дело... ( Меt. Е 1025b7–16).
Под сущим просто (ἁπλῶς) или лучше сказать безотносительно, Аристотель понимает «сущее, поскольку оно сущее», то есть он ставит вопрос о сути сущего и спрашивает о том, что делает сущее сущим. Как говорит Аристотель, в приведенной выше цитате, теоретическая наука не обосновывает существование своего предмета, а принимает его, либо опираясь на чувственное восприятие, как делает это физика, либо в качестве гипотезы, как это делает математика. Почему это так? Это обусловлено устройством аподиктического знания, любое доказательство всегда исходит из своего предмета, а не обосновывает его, оно идет от посылок к следствиям. Теоретическая наука представляет собой систему доказательств, поэтому вопрос о первой истинной посылке, не находится в ее ведении. Значит, даже если бы теоретическая наука хотела доказать существование свого предмета, сделать этого она бы не смогла. Возникает проблема начала доказательства, начала науки.
Начало доказательства в принципе доказать нельзя, либо получится круг в доказательствах, либо ряд доказательств будет уходить в бесконечность, в обоих случаях это говорит о том, что никакого доказательства не будет. Приходиться признать, что началом доказательства оказывается недоказуемое определение.
Далее, начала доказательств – это определения, у которых не будет доказательств (ὁρισµοί, ὧν ὅτι οὐκ ἔσονται ἀποδείξεις)… В самом деле, или начала доказуемы, тогда имеются начала начал – и так до бесконечности, или первые [начала] будут недоказуемыми определениями (τὰ πρῶτα ὁρισµοὶ ἔσονται ἀναπόδεικτοι) ( An. Post. II 90b25).
Но может быть эти определения не нуждается в доказательстве благодаря своей очевидности? Аристотель в О небе (I, 5 271b8–13) говорит, что ошибка, допущенная в начале, многократно возрастет в дальнейших рассуждениях. Значит, даже в началах можно ошибаться. Поэтому, чтобы получить истинное доказательное знание, необходимо наличие истинной посылки. Как ее получить? Аристотель полагает, что всякое знание, в том числе знание первой посылки, предполагает уже имеющееся знание:
Всякое обучение и всякое основанное на размышлении учение возникает из ранее имеющегося знания (ἐκ προϋπαρχούσης γνώσεως). Это становится очевидным, если мы рассмотрим это в каждом случае, ведь и математические науки, и каждое из прочих искусств приобретаются именно таким способом ( An. Post. I 71а1–5).
Аристотель говорит здесь об известном парадоксе знания, сформулированном Платоном в Меноне 6: для того, чтобы что-то узнать, необходимо заранее уже иметь знание об этом. Значит, если теоретическая наука исходит из истинных первых посылок, которые являются недоказуемыми определениями, мы должны их уже как-то заранее знать. Причем, согласно Аристотелю, первую посылку нужно знать двояко. В самом общем виде всякий вопрос распадается на две части: на вопрос о том, чт о это такое и есть ли оно. Иногда достаточно знать только смысл определения, иногда – только, что это есть, а в некоторых случаях нужно знать и то и другое:
Иметь предварительное знание необходимо двояко (διχῶς δ' ἀναγκαῖον προγινώσκειν·), а именно: в одних случаях необходимо заранее принять, что это есть (ὅτι ἔστι), в других следует понять, о чем идет речь (τί τὸ λεγόµενόν ἐστι), в третьих, необходимо и то и другое (ἄµφω); например, то, что истинно или утверждать, или отрицать всякий [предикат], нужно заранее знать, что это есть; относительно треугольника, – что он то-то и то-то означает (τί σηµαίνει), а относительно единицы – и то и другое: и то, что она означает, и то, что она есть, ведь каждое из них ясно нам не одинаково (An. Post. I 71а11–17).
В качестве примера, когда для получения знания, достаточно только определения Аристотель приводит геометрию: для нее достаточно знать определение треугольника. В качестве примера того, когда нужно знать, что это есть, Аристотель приводит так называемый «закон исключенного третьего». А о единице нужно заранее знать и то, о чем идет речь, то есть ее определение, и то, что она существует. Обратимся к этим примерам. Математика является излюбленным аристотелевским примером точного доказательного знания. Однако, в сохранившихся произведениях он рассматривает проблемы математики – статус математических объектов и их отношение к идеям, общим понятиям и единичным вещам, – только в полемическом ключе, критикуя Платона, платоников и пифагорейцев. Поэтому его собственное отношение к этим проблемам не может быть окончательно определено, но может быть реконструировано с разной степенью достоверности. Почему в случае единицы нужно знать и то, что она означает, и то, что она есть, а в отношении треугольника достаточно знать только его определение? Согласно Аристотелю, все математические числа получаются путем арифметических операций сопоставимых друг с другом единиц:7 например, двойка – это сумма двух одинаковых единиц. Тогда для арифметики достаточно знать о существовании одной единицы и знать ее определение, ведь зная это, мы сможем дать определение любому числу и быть уверенными в том, что оно существует. Таким образом, мы получим истинное знание о действительно существующих вещах.8 А что же относительно других математических дисциплин, а именно геометрии и стереометрии? Что нужно для того, чтобы были возможны эти науки? Согласно определению, точка – это единица, имеющая положение в пространстве. Линии, плоскости и объемные тела находятся к единице в отношении последующего к предыдуще- му.9 Отношение предыдущего и последующего предполагает, что предыдущее может существовать без последующего, тогда как последующее не может существовать без предыдущего. Поэтому точка, линия и плоскость не существовали бы, если бы не существовала единица. Таким образом, единица выступает условием существования геометрических и стереометрических фигур. Но нужно еще дать их определение. Согласно приведенному фрагменту, для определения всех геометрических многоугольников и стереометрических многогранников достаточно определения треугольника.10 Это так, потому что всякий многоугольник можно представить как сумму треугольников, например, можно определить квадрат как два прямоугольных треугольника, построенных на одной диагонали. Итак, для того, чтобы были возможны геометрия и стереометрия как аподиктические науки, нужно знать определение треугольника и знать, что единица существует.
Поскольку Аристотель видит возможность разделить вопрос о значении предмета и его существовании, то может быть поставлен вопрос о «сущем, поскольку оно сущее», о сущем как таковом. В Метафизике Г Аристотель ищет такую науку, которая могла бы заниматься этим вопросом:
Есть некоторая наука, исследующая сущее как таковое, а также то, что ему присуще само по себе (”EaTiv Ётат^п ti? ^ 9£ЫР£1 то ov $ ov Kai та тоитш unapxovTa ка0' аито). Эта наука не тождественна ни одной из так называемых частных наук (аитп 3' saTiv ouSspa twv Sv ^spsi Xsyo^ovwv), ибо ни одна из других наук не исследует общую природу сущего как такового, а все они, отделяя себе какую-то часть его, исследуют то, что присуще этой части, как, например, науки математические ( Меt. Г. 1003а21–27).
Значит, должна быть другая наука, отличная от тех трех философий, о которых речь шла в начале, которая будет заниматься сутью бытия всякого сущего, или иначе, началом всякого сущего. Почему это именно ἐπιστήµη?11 Это наука в смысле точности и строгости знания, потому что если такое знание вообще возможно, то оно будет давать начала другим наукам (см. Bolton 1994). Она положит фундамент в основание всякой теоретической, а следовательно, и практической, и поэтической дисциплинам. Но она не мо- жет быть аподиктическим знанием, потому что она занимается началами познания. В итоге эту науку Аристотель называет просто философией, соответствующем мудрости знанием.
У Аристотеля вопрос о сути сущего становится вопросом о сущности, или о причинах сущности. Почему это так? «О сущем говорится в нескольких смыслах (πολλαχῶς)», – пишет Аристотель в Метафизике Г и неоднократно повторяет то же самое в шестой и седьмой книгах, а также в других местах. Он перечисляет при этом ряд понятий, каждое из которых носит имя «сущее»:
Одни называются сущими потому, что они сущности (οὐσίαι), другие – потому, что они состояния сущности (πάθη οὐσίας), третьи – потому, что они путь к сущности (ὁδὸς εἰς οὐσίαν)… ( Met. Г 2, 1003b6–10).
Эти различные значения сущего: сущность, состояние сущности, путь к сущности - не могут быть сведены к одному. Если сущее и обладает каким-то единством, то это так называемое единство по аналогии, то есть единство по отношению к чему-то одному, а именно к сущности:
О сущем говорится, правда, в различных значениях, но всегда по отношению к какой-то одной природе, и не только омонимично (Τὸ δὲ ὂν λέγεται µὲν πολλαχῶς, ἀλλὰ πρὸς ἓν καὶ µίαν τινὰ φύσιν καὶ οὐχ ὁµωνύµως), а так, как все здоровое, например, относится к здоровью – или потому, что сохраняет его, или потому, что содействует ему, или потому, что оно признак его, или же потому, что способно воспринять его; и точно так же врачебное по отношению к врачебному искусству (одно называется так потому, что владеет этим искусством, другое – потому, что имеет способность к нему, третье – потому, что оно его применение), и мы можем привести и другие случаи подобного же словоупотребления. Так вот, таким же точно образом и о сущем говорится в различных значениях, но всякий раз по отношению к одному началу (τὸ ὂν λέγεται πολλαχῶς µὲν ἀλλ' ἅπαν πρὸς µίαν ἀρχήν) ( Met. Г 2, 1003а33–b6).
Важно отметить, что в отношении сущего речь идет не об омонимии, или одноименности (см. Ferejohn 1980). Аристотелевское понятие одноименности не вполне совпадает с современным. Аристотель определяет ее так: «когда имя одно, а определение сущности разное» (Cat. 1а1–2). И приводит в качестве примера человека и его изображение. И человека, и его портрет мы назовем одинаково, но быть человеком из плоти и кости и быть изображением человека, то есть быть краской и холстом, свершено разные определения. Таким образом, одноименность предполагает, что вещи, названные, одним именем, не имеют ничего общего, помимо этого имени. В отношении сущего – это не верно, поскольку все сущее имеет отношение к сущности. Все значения сущего связаны с сущностью, потому что именно сущность является сущим в первом и прямом смысле этого слова, поэтому вопрос о существе сущего в итоге становится вопросом о сущности.12
Как поставить вопрос о сущности? Аристотель спрашивает, каким образом устроено всякое вопрошание? Если мы хотим узнать о вещи, что она такое, то мы должны узнать ее причину. Аристотель наглядно поясняет, почему это так во второй книге Второй аналитики. Есть всего 4 вида искомого: во-первых, «что», то есть мы ищем определение, во-вторых, «почему», то есть мы ищем причину, в-третьих, «есть ли», то есть существует ли, и, в-четвертых, «что есть», то есть что это такое?13 Сначала мы видим, что нечто есть и только потом спрашиваем, что это такое? Когда мы знаем, что вот это есть, то мы спрашиваем причину, почему это так. То есть когда мы выяснили, что вещь есть и что она есть, мы спрашиваем, почему она есть, или что она такое? Например, если мы видим затмение Луны, то спрашиваем, почему Луна затмевается? Тогда знание о том, что такое лунное затмение и причина, почему оно происходит, с очевидностью совпадают. Этот же принцип изучения предмета, то есть нахождение его причин, Аристотель применяет в Физике: «Так как наше исследование предпринято ради знания, а знаем мы, по нашему убеждению, каждую [вещь] только тогда, когда понимаем, «почему [она]» (а это значит понять первую причину), то ясно, что нам надлежит сделать это и относительно возникновения, уничтожения и всякого физического изменения, чтобы, зная их начала, мы могли попытаться свести к ним каждую исследуемую вещь».14 Возникновение и уничтожение относится к сущности физической вещи, а не к тому, что о ней сказывается. Поэтому нахождение причин возникновения и уничтожения – это нахождение причин самой сущности. Согласно Аристотелю, понятие первой причины, то есть причины, у которой уже не может быть другой причины, имеет четыре значения: материальная, формальная, действующая и целевая.15 По- скольку речь идет о причинах сущности, они называются онтологическими. Итак, вопрос о сути сущности сводится к вопросу о причинах, или началах, сущности. Если мы хотим ответить на вопрос о том, что такое сущность, мы должны представить ее как четыре онтологические причины.
Знание причин представляет собой подлинное, безусловное, знание. Потому что именно причина делает вещь такой, какова она есть. Нахождение причин делает явление необходимым, не потому что имеет место внешнее принуждение, а потому что иначе быть не может:
Мы полагаем, что знаем каждую вещь безусловно (ἁπλῶς), а не привходящим образом (κατὰ συµβεβηκός), софистически, когда полагаем, что знаем причину, в силу которой она есть, что она действительно причина ее и что иначе обстоять не может (γινώσκειν δι' ἣν τὸ πρᾶγµά ἐστιν, ὅτι ἐκείνου αἰτία ἐστί, καὶ µὴ ἐνδέχεσθαι τοῦτ' ἄλλως ἔχειν) ( An. Post. 71b9–16).
Таким образом, теоретические науки имеют своим предметом – сущность. Сущность, разложенная на четыре онтологические причины, представляет собой ту истинную посылку, недоказуемое определение, на основании которого строится научный, аподиктический, силлогизм, который и составляет доказательное знание по Аристотелю.
Чтобы знание, которое получается в результате использования силлогизма, обладало достоверностью, необходимо, чтобы знание посылки было более ясным и отчетливым, чем знание о том, что из нее выведено.
Предпосылки должны быть причинами, и более известными, и предшествующими (αἴτιά τε καὶ γνωριµώτερα δεῖ εἶναι καὶ πρότερα); причинами – потому, что мы тогда познаем предмет, когда знаем его причину, предшествующими – потому, что они причины, и ранее известными – не только в том смысле, что известно, что они означают, но и в том, что известно, что они существуют (οὐ µόνον τὸν ἕτερον τρόπον τῷ ξυνιέναι, ἀλλὰ καὶ τῷ εἰδέναι ὅτι ἔστιν) ( An. Post. I 71b).
Аристотель предлагает понимать «предшествующее» и «более известное» двояко:
…не одно и то же предшествующее по природе (πρότερον τῇ φύσει) и предшествующее для нас, и не одно и то же более известное [по природе] и более известное нам (ἡµῖν γνωριµώτερον) ( An. Post. I 71b35–37).
Но разве это не иной способ сказать о том, что должно быть вот такое знание, но у нас его нет. Оказывается, что первое (то, что в науке является аксиомами) нужно искать. Нужно выяснять, что такое сущность и что такое сущее, поскольку оно сущее? Все устройство аподиктического знания указывает на существование сущности или сущностей, но что она такое, сколько их, есть ли общий род сущности – все эти вопросы, которые должны быть исследованы. Таким образом, Аристотель, с одной стороны, переворачивает парадокс Менона: если Платон показывает, что мальчик-раб, не обучавшийся геометрии может решить задачу об удвоение площади квадрата, то это означает, что он уже как-то знает решение, припоминает уже известное ему, то Аристотель, наоборот, показывает, что аподиктическое знание, которое исходит из первых и истинных посылок, само знать их не может. Парадокс аподиктического знания заключается в том, что самое ясное и достоверное знание, оказывается для нас проблемой. То, из чего исходит все аподиктическое знание, то, на что опираются науки, нам неизвестно! Сущность не дана нам как нечто готовое, нужно узнать, что она такое и существует ли она. Поэтому нужно это отличное от теоретических наук знание – знание начал и причин сущности, то есть философия. А если мы все-таки как-то знаем начала и причины, то не так, как знаем то, что из них следует; это иная форма знания.
Философия как таковая занимается началами, причем первыми, то есть причинами сущности. Эти первые начала должны быть чем-то существующим самостоятельно, ведь они – сущности, но также они должны быть самыми ясными и достоверными. Сущность, чтобы быть сущностью, должна сочетать в себе два требования – самостоятельное существование и наибольшую познаваемость. Эти требования проистекают из анализа устройства аподиктического знания. Начала бытия и мышления совпадают, поэтому о них есть единая наука,16 а именно наука, вопрошающая о началах и причинах бытия и мышления. Именно она может быть названа мудростью (σοφία), а тот, кто ею занимается – философом (φιλόσοφος). Таков путь Аристотеля, ведущий к необходимости постулировать тождество бытия и мышления. В чем единство философского знания? Как и у теоретических наук, единство философского знания в его предмете. Только в данном случае предметом является вопрос – вопрос о «сущем, поскольку оно сущее», а значит единство науки такое же как единство сущего, то есть единство по аналогии. В том же смысле, в каком едино врачебное искусство, как относящееся ко всему здоровому, также едина и наука о сущем, как относящаяся к сущности. Вопрос о сущем занимает выделенное место, вопрошая о «сущем, поскольку оно сущее», философия оказывается ближе к логике (см. Code 1999). Философия не имеет перед собой готового предмета, поэтому она, как и логика, беспредметна.17 Или можно сказать иначе, логика является сама своим предметом, потому что, именно исследуя логику познания, форму знания – правильный силлогизм и аподиктические науки, Аристотель приходит к проблеме предмета познания, к проблеме сущности. Так что не случайно вопрос о сущности, о предикатах, о критерии сущности Аристотель решает в Категориях, а вопрос о началах познания в Аналитиках.
Список литературы О делении философских дисциплин и единстве философского знания у Аристотеля
- Bolton, R. (1994) "Aristotle's Conception of Metaphysics as a Science," in Unity, Identity, and Explanation in Aristotle's "Metaphysics", edited by T. Scaltsas, D. Charles, M. Gill. Oxford: Clarendon Press, 321-354.
- Code, A. (1999) "Metaphysics and Logic," in Routledge History of Philosophy, vol. 2, 41-75.
- Ferejohn, M. (1980) "Aristotle on Focal Meaning and the Unity of Science," Phronesis 25, 117-128.
- Ross, W. D., ed. (1925) Aristotle's Metaphysics. Oxford: Clarendon Press.
- Ross, W. D., ed. (1957) Aristotle's Prior and Posterior Analytics. Oxford: Clarendon Press.
- Ross, W. D. (1995) Aristotle. London: Routledge. Scott, D. (2005) Plato's Meno. New York: Cambridge University Press.
- Sorabji, R., ed. (2004) The Philosophy of the Commentators, 200-600 AD. A Sourcebook. Logic and Metaphysics. London: Duckworth.
- Vlastos, G. (1994) Socratic Studies. New York: Cambridge University Press.
- Wedin, M. V. (2009) "The Science and Axioms of Being," A Companion to Aristotle, ed. by Georgios Anagnostopoulos. London: Blackwell, 125-143.
- Вольф, М. Н. (2013) «Менон и парадокс поиска: интерпретация метода познания», Вестник Русской христианской гуманитарной академии 14.3, 53-61.
- Месяц, С. В. (2010) «Учение Платона об идеях-числах», Космос и Душа (Вып. 2): Учение о природе и мышлении в Античности, в Средние века и Новое время. Москва: Прогресс-Традиция, 29-82.