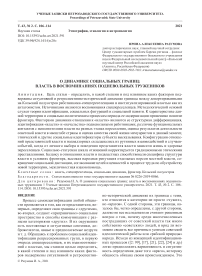О динамике социальных границ: власть в воспоминаниях подневольных тружеников
Автор: Разумова Ирина Алексеевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Этнография, этнология и антропология
Статья в выпуске: 2 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - определить, в какой степени и под влиянием каких факторов подвержены ситуативной и ретроспективно-исторической динамике границы между депортированными на Кольский полуостров работниками-спецпереселенцами и институализированной властью как их антагонистом. Источниками являются воспоминания спецпереселенцев. Методологической основой служат теории идентификации, социальных фигураций и социальной памяти. К характеристике данной территории и социально-политическим процессам периода ее модернизации применимо понятие фронтира. Факторами динамики отношения к «власти» являются ее структурная дифференциация, идентификация «власти» и «начальства» подневольными работниками, различие функциональных контактов с исполнителями власти на разных этапах переселения, оценка результатов деятельности советской власти в масштабе страны и оценка качества своей жизни мемуаристом в данный момент, этнический и другие социальные идентификаторы субъекта высказывания. Конфигурации отношений представителей власти и поднадзорных складывались из рутинных взаимодействий и случаев-событий, когда от личного выбора и поведения представителя власти зависели жизнь и здоровье переселенцев. Социально-статусная шкала отношений корректируется традиционными этическими преставлениями. Балансу в отношениях власти и подвластных способствовали специфика структуры власти в условиях фронтира, высокая народная репутация отдельных персон местной власти, сокращение социальной дистанции, согласование целей и ценностей в процессе труда по обустройству новой территории, межличностная взаимопомощь.
Власть, спецпереселенцы, социальная динамика, фронтир, кольский полуостров
Короткий адрес: https://sciup.org/147227328
IDR: 147227328 | УДК: 39:94(924.14/16)6209 | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.591
Текст научной статьи О динамике социальных границ: власть в воспоминаниях подневольных тружеников
Процесс самоидентификации любой общности проявляется в том, как ее представители, во-первых, определяют свои границы с «другими», во-вторых, создают «приграничное» социальное пространство и способы коммуникации с разными категориями «других». В их окружении есть постоянные и ситуативные союзники, доброжелатели, явные и предполагаемые недруги и т. д. Обращаясь к проблемам социальной идентификации репрессированных групп, в первую очередь спецпереселенцев, и их взаимоотношений с властью, мы ставили целью определить, в какой степени и под влиянием каких факторов подвержены ситуативной и ретроспектив
но-исторической динамике их границы с теми, кто относится к категории не просто «чужих», но «врагов». С одной стороны, эти границы, казалось бы, четко определены, с другой стороны, далеко не все исследователи считают решенным вопрос о том, почему среди многочисленных пострадавших от советской власти так много собственно «советских» людей, и вряд ли возможно сводить все причины к успехам советской идеологической работы или «рабской природы» народа. Исходя из концепций идентификационных процессов ([2: 99], [17], [21], [22], [24] и др.) легко предположить вариативность и ситуатив-ность определения даже того «врага», которому общность обязана своим происхождением. Это относится и к историческим общностям, сформированным на основе различных категорий советского «спецконтингента».
В частых сопоставлениях Холокоста с репрессиями 1930–1950-х годов в СССР далеко не всегда учитывается, что «различие между жертвами и палачами нацизма абсолютно», в то время как в советском случае “жертвы” намного более разнообразны и не всегда идентифицируемы», так как в советской реальности жертвы и палачи менялись местами [18]. Холокост, если рассматривать его в широком смысле как преследование и уничтожение различных групп населения, а не только как геноцид евреев [23: 176], [26], и сталинские репрессии были направлены на разные объекты. Если в идеологии нацизма устойчиво доминировали, объединившись, расовый (биологический) и этнонациональный признаки, то идеология сталинского репрессивного режима базировалась на сугубо социальных постулатах. Она намного больше подвергалась варьированию под влиянием политико-экономической конъюнктуры и существовала более длительное время, так что можно пронаблюдать, как постоянно менялись границы между «своими» и «чужими», «друзьями» и «врагами» и пр.
Рассматривая воспоминания вынужденных переселенцев на Кольский полуостров в период коллективизиции1, мы выделили в них группу микросюжетов о взаимодействии с представителями властных структур и отдельных высказываний об отношении к субъектам власти. Под «властью» понималась институализированная власть, основывающаяся на деятельности государственных институтов, субъектами которой выступают главы и функционеры государственной, региональной и местной администрации, политических партий (в данном случае – единственной правящей партии), руководители ведомств, производств, хозяйств и т. д. (мы руководствовались современным понятийным политологическим аппаратом [4]). В исследованиях репрессивных режимов субъекты власти распределяются как минимум на две категории по отношению к подвластному населению: виновников и исполнителей2. Между ними устанавливаются свои взаимозависимости.
В то же время мы опирались на теорию социальных фигураций Н. Элиаса [14], [15], [19], в которой используется понятие власти как отношения подчинения, специфического взаимодействия между властвующим и подвластным субъектами. Власть в данной концепции превращается в понятие отношения, которое создается в процессе реальных взаимодействий внутри отдельных общностей и между от- дельными людьми; «из сплетения поведения многих людей вырастают специфические переплетающиеся структуры», или меняющиеся фигурации. Основу процесса составляет «флуктуирующее равновесие напряжения, постоянное движение баланса власти, который клонится то в одну, то в другую сторону». Масштаб общности и число участников взаимодействия определяют длину «цепей взаимозависимостей» и степень их дифференцированности [20]. В обоих значениях «власть» имеет различные воплощения в представлениях и наименованиях.
И деятельность институтов власти, и структурирование социального пространства посредством динамичных фигураций имеют свои особенности на территориях фронтира. Это осваиваемое приграничье крупных государств, которым является и Кольский полуостров. К основным чертам фронтира относятся маргинальное геополитическое расположение, «центрирование очагами городской жизни», «де-факто колониальный статус территории», «отличие системы управления от таковой в метрополии, рыхлость административно-управленческой структуры», «более высокая, чем в метрополии, степень горизонтальной и вертикальной мобильности, несформированность постоянного (местного) населения» [1], «более высокий уровень кооперации, доверия» [11] и др. Особенности формирования и деятельности властных структур на фронтирных территориях России исследователи рассматривают, как правило, или на этапах досоветской «колонизационной истории», или в аспекте актуальных проблем управления этнокультурными процессами, в том числе в арктических российских регионах. Между тем один из участников недавней дискуссии о концепции фронтира верно заметил, что «важное значение имеет выявление основных маркеров превращения фронтирной территории в традиционную территорию страны и конкретное исследование этих процессов» [6: 96]. Следовательно, необходимо более пристальное внимание ко времени и специфике советской модернизации на разных приграничных территориях в политико-административном ракурсе. Обращение к истории взаимоотношений власти и трудовых мигрантов, насильственно отправленных осваивать Арктику в конце 1920-х – 1930-е годы, способствует устранению этой лакуны.
«ПРЕСТУПНАЯ ВЛАСТЬ»
На условной шкале социальной близости – чужести у репрессированных, в том числе спец-переселенцев, полярные позиции занимают власть и жертвы ее преступлений. Государство назначило внутренних врагов и начало борьбу. Представители противоположной стороны избирали непротивление или сопротивление (о формах сопротивления спецпереселенцев по нашим материалам см.: [13: 104–105]). Непротивление большой части спецпереселенцев мотивировалось традиционными установками («плетью обуха не перешибешь», «всякая власть от Бога» и т. п.), которые транслировались меж-поколенно. На ретроспективные лояльные и сбалансированные оценки действий советской власти влияют свойства социальной и индивидуальной памяти и ряд личностных факторов. У одних мемуаристов это следствие жизненного опыта, осмысления «большой истории» и возрастных переоценок, у других – советской социализации и идейной убежденности, у третьих – свойств личности с развитой склонностью к эмпатии и к оправданию не только «других», но и «врагов».
Противоречивое отношение крестьянства к власти в период коллективизации – одна из актуальных проблем [5], [7], [10], [16]. Согласимся с тем, что разные модели отношения к советской власти (высокий авторитет, с одной стороны, ненависть и презрение, с другой стороны) хорошо уживались в индивидуальном сознании, а граница между ними зависела от конкретной ситуации [7: 196–197]. В случае крестьян-спецпе-реселенцев важно, к какому этапу процесса переселения относится проявление того или иного отношения. На основании воспоминаний постреабилитационного времени можно судить лишь о том, как репрезентируется политическая власть в рассказах людей, которые пережили и осмыслили опыт спецпереселения, а также находятся под влиянием актуального на данный момент общественного дискурса. Объединяющим началом высказываний служит признание виновности власти, однако степень негативизма в отношении к ней зависит от совокупности переменных.
Во-первых, большое значение имеет оценка качества своей жизни мемуаристом на данный момент: наличие семьи, успешных детей, внуков, материальное обеспечение, жилищные условия, состояние здоровья и т. д. Все негативное часто воспринимается как следствие травмы, причиненной властью в прошлом, или как продолжение репрессий, которые не заканчиваются со сменой власти («опять нас ущемляют»). Бывшие спецпереселенцы склонны воспринимать социально-экономические, правовые проблемы, недостатки социальной политики власти как направленные прежде всего против их группы. Признание властью их заслуг перед страной (связанное с пресловутыми «льготами») боль- шей частью расценивается как проявление лицемерия государства. Это не исключает других интерпретаций полученных наград и преференций: исправление исторической «ошибки», заглаживание властью вины, сохранение рабочего и воинского достоинства жертвами репрессий, разграничение понятий «власть» и «Отечество». Высказывания постперестроечного времени на эту тему свидетельствуют, что советская и постсоветская власти нередко воспринимаются как преемственные.
Во-вторых, оцениваются результаты деятельности советской, в том числе сталинской, власти в масштабе страны. Одни мемуаристы просто игнорируют этот аспект, вынося приговор властям за свою «украденную жизнь». Другие задаются болезненным вопросом о цене за развитие и сохранение страны. В попытках ответа они или исключают любые оправдания принесенной жертвы, или рационализируют ее, в той или иной мере принимая свою «необходимую» роль.
В-третьих, имеют значение этнический фактор и совокупность социальных характеристик мемуаристов. В рассмотренных текстах более жесткими являются высказывания депортированных финских колонистов и «раскулаченных» ингерманландских финнов. На смыслы и форму утверждений влияют возраст, образование, вид деятельности, религиозная ориентация и т. д.
В-четвертых, важна идентификация и дифференциация «власти» и «исполнителей» субъектами высказывания, что проявляется в номинациях («советская власть», «Сталин», «большевики», «надзиратели», «начальники», «уполномоченные» и т. д.). Им соответствуют, с одной стороны, реальные институциональные функции, с другой – групповые и индивидуальные представления и образы власти.
В-пятых, имеют значение статусы и личности представителей власти. Так, особое положение в административной или партийной иерархии может занимать человек, который воплощает государственную власть в целом и одновременно отвечает за организацию управления на данной территории. При известном стечении обстоятельств «человек власти» наделяется свойствами патрона и «гения места». Для строителей Хибиногорска таким был С. М. Киров, что подтверждает сохраняющаяся до сих пор локальная фольклорная традиция. Единичные приезды Кирова запечатлелись в рассказах-воспоминаниях о мудром и справедливом правителе, который в простом облике, неузнанным обходит жилища, наблюдает быт спецпереселенцев, общается с людьми, и по его слову улучшается жизнь3. Мифологизация этой личности, безусловно, свя- зана с гибелью Кирова и фактом переименования города в его честь. О переименовании многие старожилы-спецпереселенцы сожалеют, но это не мешает общей положительной оценке партийного руководителя, который немало способствовал привлечению средств для создания комбината и города и решению производственных и социальных проблем. Народная репутация Кирова здесь была такой же высокой, как и офици-альная4. В подобных случаях маятник отношения к субъектам власти склонялся к положительному или отрицательному полюсу в зависимости от того, как сказывалось на оценках деяний и поведения властного лица сокращение социальной дистанции между ним и жителями.
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Принято считать, что местная власть подвергается в народе большей критике, поскольку именно на местах больше возможностей для злоупотреблений, «искажений» и т. п. [10: 236–237]. С учетом социальной динамики вопрос требует уточнения. В случае спецпереселенцев имеет значение, выражают ли свое отношение крестьяне, которые остались в обстановке колхозной деревни, или же бывшие крестьяне – спецпереселенцы, находящиеся на новом месте, занятые не крестьянским трудом и включенные в иную систему управления. Формирование того или иного типа взаимоотношений между спецпереселенцами и представителями власти зависит и от этапа переселения. Различны функции, которые выполняют при этом властные структуры и лица: «раскулачивание», выселение, транспортировка, размещение, организация работ, надзор и др. В конкретных условиях на разных отрезках жизненного пути переселенца в качестве «местной власти» или «начальства» выступают представители разных властных структур: советской исполнительной власти (администрации городских и сельских поселений), руководства производств, надзирающих органов (комендатур) и т. д.
На отношении высланных к местному руководству сказывались различия территорий и производств. По заключению исследователя крестьянской ссылки в Сибири, если дети спецпереселенцев Нарыма упоминают о «мятежном отношении», оно почти всегда направлено против местных властей [25: 1172]. О сопоставлениях говорить рано, но воспоминания спецпере-селенцев – строителей городов Кольского полуострова свидетельствуют, скорее, о лояльности к «местной власти». В ряде случаев руководители совмещали здесь разные властные функции, поскольку на незаселенной ранее территории в местах строящихся крупных комплексных объ- ектов местную власть представляли руководители строительства. Они были наделены большими административными, хозяйственными, партийными полномочиями, и их взаимоотношения с подчиненными складывались в зависимости от многих переменных обстоятельств.
Прежде всего по-разному выстраивались и понимались самими руководителями их функциональные обязанности и приоритеты, особенно в случае совмещения высоких должностей. На разных этапах строительства облеченные властью лица решали многообразные задачи, административные и профессиональные. Так, в Хиби-ногорске нужно было обеспечить геологический поиск и исследования, наладить деятельность служб, необходимых в местных условиях (например, противолавинной), руководить промышленным и гражданским строительством, разместить «на голом месте» массы трудовых мигрантов, организовать их работу, экстренно создать социальную инфраструктуру, осуществлять «идеологический» контроль и т. д.
Надзирающие функции выполняли комендатуры, подчинявшиеся НКВД. По существу, бесправные труженики находились в ситуации «двоевластия», и их реальное положение определялось балансом властей. Если «надзиратели» воплощали карающую власть, то администрация была занята обустройством производственного и жизненного пространства, труда и быта. Как бы ни оценивались плоды ее деятельности, местная власть в той форме, в какой она существовала, в частности в Хибиногорске – Кировске и Мончегорске, не могла не составить альтернативу «надзирателям». Отношение к ней склонялось к положительному полюсу.
Главным основанием для положительной оценки руководителей служит рачительное, «хозяйственное» отношение к производству, городу и людям. Мемуаристы отмечают прежде всего В. И. Кондрикова и М. М. Царевского, которые относятся к харизматичным местным лидерам, включенным в официальный региональный пантеон. Оценка этих личностей совпадает в советской, постсоветской историографии и в воспоминаниях бывших спецпереселенцев.
В. И. Кондриков в середине 1930-х годов сосредоточил в своих руках фактически единоличную власть по управлению большой территорией и двумя строящимися комбинатами – в Кировске и Мончегорске. В конечном счете он пострадал по этой причине, получив прозвище «князя Кольского» и пополнив список репрессированных и расстрелянных [8], [9]. Это окончательно сделало его «своим» в памяти спецпереселенцев.
Далеко не у всех руководителей, имевших высокую народную репутацию, была столь печальная участь. Видный организатор производства М. М. Царевский в годы Гражданской войны служил в ВЧК, до и после работы на Кольском полуострове руководил крупными строительствами в разных регионах, во главе треста «Кольстрой» встал после расстрела В. И. Кондрикова, а перед войной был назначен директором комбината «Се-вероникель», когда тот был передан в ведомство НКВД. Прямая принадлежность к «органам» не сказалась на репутации Царевского у поднадзорных рабочих. Автор биографического очерка цитирует слова одной из работниц «Северони-келя» о том, что Царевский ассоциируется у нее с С. М. Кировым, глядя на памятник которому она вспоминает бывшего директора [12: 141].
Главными основаниями положительной оценки руководителя, помимо хозяйственности, трудовой самоотдачи и заботы о «жизнеустройстве» подчиненных, являются «открытость» в общении, то есть нарушение статусных границ, и гуманное отношение к «невольникам», которое также проявляется в отказе признавать границы, но уже между ними и «вольными» тружениками.
«НАЧАЛЬСТВО»
Руководители хозяйств, будь то огромное комплексное производство или небольшое сельскохозяйственное предприятие, вообще мало ассоциируются у спецпереселенцев с «властью». Они обозначаются словом «начальство». Контроль за соблюдением особого режима не был задачей этих руководителей даже в тех случаях, когда крупное строительство передавалось в ведение НКВД, как это было с «Североникелем». Надзирающе-карательная роль не входила в приоритеты руководителя масштабного производства, разделение трудящихся на «вольных» и «невольных» не имело большого значения с точки зрения общих целей «промышленного освоения».
Мера отчуждения от «начальников» связана с социальной и пространственной дистанцией между ними. С «большим начальником» у работника, тем более подневольного, мало шансов встретиться лично (и потому рассказы о таких знаменательных встречах включаются в автобиографии). Начальники статусами ниже находятся близко, отношения с ними приобретают более или менее личный характер, и на них больше влияют ситуативные факторы. Взаимоотношения начальника и спецпереселенца зависят от плотности их производственных и поселенческих контактов. А. И. Ковалевская в Хибиногорске работала уборщицей в бараке, где жило «начальство». Она сохранила теплые воспоминания о секре- таре городского совета Е. И. Потаповой, которая относилась с пониманием к ее труду, а когда с мемуаристкой произошел несчастный случай, организовала медицинскую помощь, навещала в больнице, помогала с лекарствами5. В особых случаях отношения могут быть полностью сбалансированными, то есть по существу равноправными. Такой случай, относящийся к послевоенному времени, описал С. В. Тарараксин в рассказе «Две судьбы. По разные стороны колючей проволоки» – о взаимопомощи начальника строительного управления и Белоречлага В. И. Полтавы и его водителя из спецпереселенцев А. А. Бар-самова6.
Трудолюбивые спецпереселенцы должны были вызывать, скорее, расположение руководителей-хозяйственников: «Люди у нас, и начальство, были очень хорошие. К переселенцам относились хорошо»7. Такие утверждения не редкость. Отношение к бесправным труженикам со стороны «начальников» и исполнителей из «органов» противопоставлены:
«В полутора километрах от Тик-губы поднимался совхоз “Индустрия”, куда пошли работать мои брат и сестра. Первый директор совхоза – человек очень энергичный и гуманный – сочувственно относился к спецпе-реселенцам. Он принял на работу моих родственников, близнецов брата и сестру, хотя им было по 15 лет. В отличие от него и первого управляющего рыбпромхозом В. Кожевникова, стражи порядка строго следили за всеми спецпереселенцами»8.
ИСПОЛНИТЕЛИ ПРЕСТУПНОЙ ВЛАСТИ
Образ власти-врага ассоциирован прежде всего с исполнителями надзирающих и карательных функций. Спецпереселенцы непосредственно имели с ними дело с самого начала и на всех этапах постигших их несчастий. В первую очередь враждебность проявлялась в местах выезда: «Приходили агенты по сбору налогов, а так как мама по инвалидности не облагалась налогом, доводили до приступа, потом уходили»9. Наибольшее число эпизодов о проявлениях немотивированной агрессии относится к моменту выселения и действиям «уполномоченных». Риторику вражды используют и профессиональные историки спецпереселений:
«Кадры, посланные в деревню, вторгались туда, как на вражескую территорию, в той или иной мере вооруженные страхом, чувством мести и пренебрежением к крестьянской культуре», кулак для них – «демонизированный образ газетных карикатур» [3: 64].
Тексты воспоминаний изобилуют примерами жестокости исполнителей выселения. Однако в отдельной ситуации даже уполномоченный мог оказаться на стороне тех, кого выселял, так как руководствовался собственными представлениями о справедливости. А. Ф. Позднякова (на момент высылки 10-летняя) рассказала, как перед раскулачиванием семья отдала на хранение соседям некоторые вещи, в том числе две рабочие дубленки. Когда они поняли, что повезут в холодные края, то попросили «шубы» обратно, но соседка стала отговариваться. «Тогда оперуполномоченный сказал: “Нет шуб, забираем корову”, – и приказал вести корову со двора», после чего имущество сразу нашлось10. Семью выселяли из Белгородской области, и получилось, что уполномоченный оказался своего рода «спасителем» будущих жителей Заполярья. Мемуаристка такой вывод не делает, но само упоминание о факте есть знак, что это очень важное событие. И не только в перспективе жизнеобеспечения, но и потому, что «своя» и «чужой» против ожиданий поменялись ролями.
Проводниками политики власти были не только люди, наделенные специальными полномочиями, но и привлеченные профессионалы. А. И. Белякова, из семьи новгородских спецпереселенцев, вспоминает, как перед отправкой на высылку женщинам устроили медосмотр. Прошел слух, что беременных отпустят. Ее мать была на восьмом месяце беременности, но медработница сказала: «Ничего, доедешь»11. Именно от медицинских работников ожидается помощь страждущим, особенно в такой ситуации, и случай не мог не остаться в памяти, так как поведение женщины-медика по существу «противоестественно» (как и все, что произошло со спецпереселенцами).
В местах спецпоселений агрессия проявлялась со стороны «управляющих» и «комендантов». Примеров тому немало у спец-переселенцев, которые до хибинской ссылки побывали в районах Сибири, Казахстана, Дальнего Востока. Рассказы о жизни на Кольском полуострове не содержат сведений о побоях и издевательствах, но свидетельствуют о помещении под арест за нарушения режима, чаще всего – запрета на передвижения между населенными пунктами. По мере расширения промышленного строительства семьи подневольных работников все чаще оказывались разделенными, например между Кировском и Мончегорском, и такие нарушения не были редкостью. В повседневной жизни спецпереселенцам досаждали «подслушивающие» и «присматривающие»12. Можно предположить, что не только репрессированные были объектами тайного контроля. За любое преступление или политическую неблагонадежность, реальные или приписанные на основании доноса, и спецпереселенец, и «воль- ный», и начальник, и надзиратель могли быстро превратиться в осужденных с последствиями вплоть до самых трагических.
При ситуативных взаимодействиях большое значение имели личные связи из прошлой жизни, случайные встречи бывших знакомых, коллег, которые формально оказались по разные стороны социальной границы. Деда Р. П. Грицаен-ко при раскулачивании арестовали и отправили в лагерь. На последнем пересыльном пункте одним из «начальников» оказался его бывший сослуживец по царской армии, и он «сделал все», чтобы дед попал не на Соловки, а на лесоповал под Кемью, что на тот момент было спасением13.
Постоянно утверждается идея, что всё решали личные качества человека. К. Н. Ильина, некоторое время находившаяся на поселении в Амурской области, сохранила воспоминание о двух комендантах. Первый «был душевнее и добрее» и однажды дал возможность тем, у кого есть силы и деньги, тайно уйти из спецпоселка. На его место пришел «жестокий комендант». Вопреки разрешению НКВД, он не отпустил малолетних детей и пожилых членов семьи с приехавшим за ними из Хибиногорска родственником. Более того, семье перестали выдавать хлеб до тех пор, пока у них не закончились оставленные родственником сухари14.
В целом мемуаристы склонны истолковывать поведение представителей власти, не соответствующее статусным ожиданиям, как проявление личных качеств людей – добрых и злых.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С одной стороны, нельзя отрицать устойчивость образа «власти-врага», преемственно сохраняющегося в памяти и «постпамяти» депортированных и репрессированных. С другой стороны, фактор времени действует в разных направлениях, поскольку актуальные оценки и своего «настоящего», и общего «прошлого» колеблются в широком диапазоне.
Из круга «преступной власти» выделяются особо уважаемые персоны, благодаря высокой личной репутации, активному участию в обустройстве местной жизни и высокому статусу в локальной истории. Они помогали если не смягчить противостояние «жертв» и «насильников», то снизить градус социальной агрессии. Балансу в отношениях власти и подвластных способствовало укрепившееся с опытом осознание факта, что застрахованных от сумы и тюрьмы нет, нет их во всех эшелонах советской власти.
Конфигурации отношений представителей власти с вынужденными переселенцами складывались, во-первых, из рутинных взаимодействий, во-вторых, из узловых случаев-событий. Это ситуации, в которых от личного выбора и поведения того, кто наделен властью, зависели здоровье, жизнь и смерть. Нормативные взаимодействия варьировались на разных этапах спецпереселе-ния и освоения места. Они регламентировались функциональными обязанностями исполнителей государственной власти и в то же время зависели от степени их служебного рвения, идей- ной непреклонности, личной гуманности и т. д. На социально-статусную шкалу отношений накладывается и корректирует ее шкала этическая, на которой отмечается степень гуманности к «невольникам». Одним из главных балансиров остается «народная» и «антропологическая» идея, что «все люди разные». Даже самая жесткая статусная иерархия власти расшатывается «властью культуры».
Список литературы О динамике социальных границ: власть в воспоминаниях подневольных тружеников
- Басалаева И. П. Критерии фронтира: к постановке проблемы // Теория и практика общественного развития. 2012. № 2. С. 46-49.
- Брубейкер Р. Этничность без групп. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. 408 с.
- Виола Л . Крестьянский ГУЛАГ: мир сталинских спецпереселений. М.: РОССПЭН, 2010. 335 с.
- Власть. Политика. Государство и государственная служба: Аналитический словарь-справочник / В. Ф. Ха-липов и др. М.: Наука, 2017. 384 с.
- Игнатова Н. М. Социальный и духовный протест спецпереселенцев в 1930-50-е гг. на Европейском Севере: постановка проблем и интерпретация [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ist-konkurs. ru/raboty/2005/911-sotsialnyj-i-dukhovnyj-protest-spetspereselentsev-v-1930-50-e-gg-na-evropejskom-severe-postanovka-problem-i-interpretatsiya (дата обращения 18.09.2020).
- Как сегодня изучать фронтиры? Дискуссия по статье Д. В. Сеня // Петербургские славянские и балканские исследования/Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2020. № 1 (27). С. 81-105. DOI: 10.21638/spbu19.2020.105
- Кедров Н. Г. Лапти сталинизма. Политическое сознание крестьянства Русского Севера в 1930-е годы. М.: Политическая энциклопедия, 2013. 280 с.
- Киселев А. А. Василий Иванович Кондриков // Не просто имя - биография страны: Книга первая. Мурманск: Кн. изд-во, 1987. С. 79-92.
- Киселев А. А. К характеристике образа и типовых черт покорителя тундры 30-х годов XX века (Василий Кондриков) // Живущие на Севере: вызов экстремальной среде: Сб. ст. Мурманск: МГПУ, 2005. С. 76-81.
- Куд юкина М . М . Крестьянство и власть в 1920-е годы // Электронная библиотека «Гражданское общество в России» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.civisbook.ru/files/File/Kudyukina. pdf (дата обращения 18.09.2020).
- Немировская А., Фоа Р. Социокультурные особенности фронтира России // Социологические исследования. 2013. № 4. C. 80-88.
- Разумный А . Михаил Михайлович Царевский // Не просто имя - биография страны: Книга первая. Мурманск: Кн. изд-во, 1987. С. 141-150.
- Разумова И . А . Создание и реконструкция общности: случай спецпереселенцев // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2019. № 8 (185). С. 102-110. DOI: 10.15393/uchz.art.2019.419
- Ритцер Д . Современные социологические теории. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002. 688 с.
- Руткевич А. М. Историческая социология Норберта Элиаса // Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Т. 2. М.; СПб., 2001. С. 349-374.
- Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня: Пер. с англ. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. 422 с.
- Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М.: АСТ Транзиткнига, 2004. 635 с.
- Холокост и ГУЛАГ: что остается после памяти? // Гефтер. 18.01.2016 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gefter.ru/archive/17231 (дата обращения 20.10.2020).
- Элиас Н . Общество индивидов = Die Gesellschaft der Individuen: Пер. с нем. М.: Праксис, 2001. 331 с.
- Элиас Н. Понятие фигурации // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. Т. III. № 3. С. 62-65.
- Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ. М.: Издательская группа «Прогресс», 1996. 344 с.
- Bauman Z . Identity. Conversations with Benedetto Vecchi. Cambridge; Malden: Polity Press, 2004. 104 p.
- Charny Israel W. (Ed.), Adalian, Rouben Paul, Jacobs Steven L., Markusen Eric, Sherman Marc I. Encyclopedia of Henocide. Vol. 1. A-H. ABC-CLIO, 1999. 718 p.
- Hobsbawm E. Are all tongues equal? Language, culture, and national identity // Living as equals. (Paul Barker, Ed.). Oxford: Oxford UP, 1997. P. 85-98.
- Kaznelson M. Remembering the Soviet state: Kulak children and dekulakisation // EUROPE-ASIA STUDIES. Routledge, 2007. Vol. 59. No 7. November. P. 1163-1177.
- Marcuse Harold. Holocaust memorials: The emergence of a genre // The American Historical Review. University of Chicago Press, 2010. Vol. 115. P. 5-89.