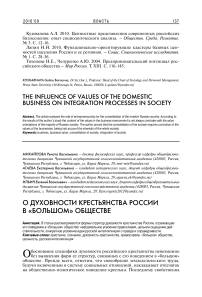О духовности крестьянства России в «большом» обществе
Автор: Михайлова Рената Васильевна, Агаева Екатерина Васильевна, Ильин Евгений Васильевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 9, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются формы структур духовности крестьянства России, отражающие его поведение в «большом» обществе: неформальное усвоение православия, цельное ощущение действительности, конкретное усвоение идеи русской интеллигенции о правде и справедливости.
Крестьяне, сознание, духовность крестьянства, православие, "большое" общество, цельность, русская интеллигенция
Короткий адрес: https://sciup.org/170168539
IDR: 170168539
Текст научной статьи О духовности крестьянства России в «большом» обществе
Обоснование специфики духовности российского крестьянства невозможно без выявления форм ее структур, связанных с его поведением в «большом» обществе. Прежде всего, отметим, что своеобразие земледельческого труда, будучи включенным в систему социальных отношений, накладывает отпечаток на общественно-политическое поведение крестьян. Последнему свойственна органическая особенность их сознания: устойчивое локально ориентированное сознание ограничивает и затрудняет возможность восприятия социальной действительности, видение общественных проблем у них целостно и системно. Такое сознание способствует неадекватной оценке наличной объективной ситуации и своего положения в обществе [Михайлова 2002: 59]. Но помимо специфики собственно земледельческого труда здесь мы учитываем особую роль религии, в частности православной. Неформальное усвоение христианства, нашедшее отражение в сложившейся православной системе ценностей, во многом обусловило духовность крестьянства России. Православие, по характеристике В.Н. Муравьева, является мягкой волной, пронизывающей человека и в то же время окружающей со всех сторон. «Дух православия есть дух всеобъемлющий. Он не знает разделения и отделения» [Муравьев 1990: 189]. Находящиеся вне церкви элементы (секты) православная церковь не признает. «Они для нее не существуют. Она знает только то, что находится в ее ограде. Она судит только тех, кто уже в этой ограде находится. Для православия в настоящем, наиболее чистом его учении, нет неправославных, ибо есть только те, кто православны» [Муравьев 1990: 189]. Названная специфика православия отчетливо выступает при сравнении его с католицизмом. «Католичество все режет …» [Муравьев 1990: 189]. В отношении к элементам, стоящим вне церкви, «католичество их отметает или, наоборот, завоевывает. Оно исходит из признания их внешними элементами, себе чуждыми, посторонними» [Муравьев 1990: 189]. Вышесказанное позволяет нам сделать вывод о том, что специфика земледельческого труда, как и особенности православия, способствуют отсутствию в русском крестьянине раздвоенности между мыслью и действием, формированию тождественности мысли, ощущения, чувства, действия и всего того, что из них вытекает.
Муравьев отмечает, что в древнерусских песнях и рассказах его поразила черта, которую он назвал «странной», – отсутствие логики, кажущееся на первый взгляд отсутствием сознательности. Древняя русская речь первоначально казалась ему неуклюже и противоречиво построенной, рассуждения в ней звучали как описания случайных, не связанных мыслью переживаний. Уподобление этому на первый взгляд признаку отсталости, культурной слабости позволило ему сравнивать древнерусских людей с дикарями. Однако более вдумчивое отношение к этим явлениям, особенно понимание того, что на их основе возникло могучее государство, позволило Муравьеву изменить свою позицию. Он сделал вывод о том, что «там, где для нас нет смысла в том значении, какое мы сейчас ищем, был все же другой смысл, сокрытый от нас нашей неспособностью его уловить. Мы увидим, что все эти не связанные и как будто не согласные проявления обладали на самом деле великой действенностью, что указывает на их внутреннее слияние. Мы поймем, что там, где не было мысли в европейском смысле (ей свойственно находиться под воздействием господствующего абстрактного разума, действующего обособленно от других сторон духа [Гуревич 2001: 213]), было, быть может, больше, чем мысль, – было цельное ощущение действительности. Мысль также в него входила, но не господствовала, не управляла человеком, отрывая его от действительности. Мысль эта была в нем подчинена действию всего его существа, всех его совокупных способностей и благодаря этому не создавала в нем никакого раздвоения» [Муравьев 1990: 188-189]. Каким образом можно объяснить отсутствие раздвоенности, наличие внутреннего единства способностей духа крестьян? Заинтересованность крестьянина, свободно ориентирующегося в земледелии (своей «стихии»), «своим делом» так поглощает всего его, что он «ничего не знает о происхождении и значении начальства, не знает, за что началась война и где находится враждебная земля и т.д.» [Успенский 1987: 405]. Все, что происходит конкретно в «большом» обществе, крестьянин воспринимает как случайности. «Случайности всевозможной политики – в царе. Царь пошел воевать, царь дал волю, царь дает землю, царь раздает хлеб. Что скажет царь, то и будет…» [Успенский 1987: 405].
Как видим, цельность духа крестьянства складывалась в течение веков российской действительности [Муравьев 1990: 188]. И.В. Киреевский полагал, что главным достоинством русского ума и характера является цельность. Она понимается как преимущественное стремление к цельности бытия внутреннего и внешнего, общественного и частного, умозрительного и житейского, искусственного и нравственного [Киреевский 1979: 290]. О том, какие формы приобретает цельность крестьянства, рассмотрим на примере того, как оно усвоило по-своему, конкретно идеи русской интеллигенции. Опираясь на высказывания Г.И. Успенского, В.Н. Муравьева, отметим, что русское интеллигентское миросозерцание, во-первых, состояло из совокупности идей, отражавших все главные течения европейской мысли. Все они были усвоены со свойственным русской душе максимализмом: в поисках последней религиозной правды в европейских откровениях интеллигенты находили ее в каждой идее, теории; но из них делались неверные выводы. Во-вторых, в своей основе оно имело «умственность в худшем ее виде». Освоение большого объема «книжных» знаний, чужого опыта как опосредующего звена между интеллигентами и реальным миром создавало возможность ситуации оторванности от контекста российской действительности. Такое освоение несет в себе элементы механистичности. «Всякое размышление, оторванное от действия, – умственно... Главный признак умственности – в отрыве мысли от действия. Умственная мысль рассуждает о чем-то вообще, об отвлеченных понятиях, качествах, категориях» [Киреевский 1979: 290]. При этом мысль интеллигента касалась человека, мира, государства.
В отличие от умственной, конкретная мысль имеет в виду «этость»1 предмета, о которой он рассуждает. Конкретная мысль всегда исторична и одинаково может касаться истории вещи, человека, нации и истории Бога. Сущность ее есть постижение прошлого как единственно существующего. Такое постижение представляется не столько умственным, сколько целостным существом человека.
Из сказанного следуют два принципиальных вывода. Первый: русская идейная жизнь была оторвана от ее крестьянских, религиозных корней. Второй: крестьяне не отвлеченно, по-своему, конкретно (понятийные структуры духовного мира крестьянина конкретны) усвоили идеи русской интеллигенции, выражавшей неприятие монархии. Медленно действовавшие «духовные яды» государственного отщепенства интеллигенции проникли и в крестьянство. Народ2 «не мог за несколько месяцев изменить свою сущность, научиться понимать умственно, уйти от своих давних психологических навыков. Он остался в своих способах разумения и действия целостным и действенным, и то, о чем мечтали, думали, говорили, писали интеллигенты, он осуществил» [Киреевский 1979: 196]. Одухотворенные идеей русской интеллигенции одетые в серые шинели крестьянские массы в 1917 г. вместе с рабочими ниспровергли государство. Разумеется, дело тут было не только и даже не столько во влиянии интеллигенции на крестьян. Причины их антигосударственных настроений имелись и в них самих. Практичного крестьянина менее всего интересовало государство будущего; его привлекали догосударственные ценности. Поэтому нельзя не учитывать значимость крестьянского сознания в качестве конкретной общественной силы.
Задаваясь вопросом о том, в какой мере и как русское крестьянство оказалось в
1917 г. вовлеченным в революционные действия, следует обратить внимание еще на одно обстоятельство. «Зов тела», принявший форму «шкурных» интересов крестьянства, проявился в виде страха и усталости на фронте, ожидания обогащения в тылу, возможности получить землю, которой ранее владели богачи. Однако дело было не только в «зове тела» («темных инстинктах»). Поведение крестьян направлялось также идеальным порывом – верой «в какую-то новую внезапную правду, которую несла с собой революция. То была вера в чудо, то самое чудо, что отвергла презрительно интеллигенция и тут же народу преподнесла в другом виде – в проповеди наступления всемирной революции, уравнения всех людей и т.п.» [Муравьев 1990: 196]. Говоря о вере, мы не хотим сказать, что интересы крестьянства как материальная сила в революции не присутствовали. Проявление названных влечений крестьянства стимулировалось внешним влиянием – идеями интеллигенции о правде и справедливости. Другими словами, идеал древнерусского человека – Царство Божие на земле, который поддерживался в его сознании через церковь и государство, получил возможность выступить в форме социалистического «рая». Восприятие идей социализма крестьянскими массами было ускорено спецификой понимания их либо как раздела наличного имущества, либо как получения достаточного и равного пайка с наименьшей затратой труда, минимумом обязательств. Такое понимание соответствовало индивидуалистической «концепции жизни» крестьян.
Называя это обманом, Муравьев указал на то, что в русской революции соединились две расщепленные части русской души – душа умствующая и душа действующая. Конкретное усвоение крестьянами интеллигентской идеи приняло формы ужасающего их искажения как в практических делах, так и в отвлеченных понятиях демократии, буржуазии, социализма и т.д. В результате в отношении к государству как форме «большого» общества крестьяне демонстрировали «глубокую неопытность» [Розанов 1991: 35].
Подводя итог сказанному, можно отметить: не отсутствие логики, а изначальная целостность, базирующаяся на глубинном течении духовной жизни, была характерной чертой и силой русского человека. Отсюда все поступки крестьянина (обработка земли, посадка дерева, ловля рыбы, сбор урожая, уход за животными, а также все явления повседневного сопротивления в негативных формах – воровство, избиение, убийство, мнимое неведение, поджоги, симуляция, дезертирство) являются ее выражением. «Он целостно молился, целостно любил и ненавидел, целостно строил и разрушал. И вся древнерусская культура носила отпечаток этой цельности. Власть в области государственности, Церковь в области соборной духовной жизни, подвижники в области личного духовного достижения были произведениями этой целостности» [Муравьев 1990: 189]. Отсутствию раздвоения между мыслью и действием соответствовало то, что крестьяне не знали отвлеченных понятий, плодов оторванной умственности. Тем самым они демонстрировали свою состоятельность с точки зрения целостности их специфической духовности.
Список литературы О духовности крестьянства России в «большом» обществе
- Гуревич П.С. 1999-2001. Философия человека. М.: ИФ РАН. Доступ: gurevich_human_being_philosophy.pdf (проверено 14.06.2016)
- Киреевский И.В. 1979. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России: письмо к графу Е.Е. Комаровскому. -Критика и эстетика. Доступ: http://dugward.ru/library/kireevskiy/kireevskiy_prosv_evrop.html (проверено 14.06.2016)
- Михайлова Р.В. 2002. Объективные состояния крестьянства как социальной общности. -Философия и общество. № 4(29). С. 55-78
- Муравьев В.Н. 1990. Рев племени. -С.А. Аскольдов, Н.А. Бердяев, С.А. Булгаков и др. -Из глубины: сборник статей о русской революции. М.: Изд-во Московского университета. С. 186-203
- Успенский Г.И. 1987. Крестьянин и крестьянский труд. -Письма из деревни. Очерки о крестьянстве в России второй половины XIX века. М.: Современник. С. 381-424
- Розанов В.В. 1991. В Совете рабочих и солдатских депутатов. -Под созвездием топора. Петроград 1917 года -знакомый и незнакомый: сборник. М.: Советская Россия. С. 31-46