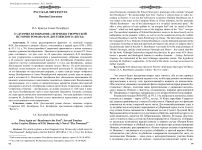О "дурачке Безобразове": штрихи к творческой истории романа Ф.М. Достоевского "Бесы"
Автор: Кравчук Игорь Александрович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (59), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается фрагмент из записной тетради Ф.М. Достоевского к роману «Бесы», относящийся к первой трети 1870 г. (РГБ, ф. 93, I.1.4, с. 76). Князь (прообраз Ставрогина) сравнивается с неким «самонадеянным дурачком Безобразовым». Признается правомерность догадки Р.Г. Назирова, считавшего, что речь идет не об известном экономисте В.П. Безобразове (как утверждалось в комментарии к академическому собранию сочинений), а об идеологе «аристократической партии» Н.А. Безобразове. Подробно анализируются эпитеты «самонадеянный дурачок» и «глуп, как Безобразов», данные Достоевским одному из ярчайших авторов газеты «Весть». По всей видимости, наиболее существенными для анекдотической репутации Н. Безобразова стали его брошюры по крестьянской реформе, а также скандал вокруг конфликта между Безобразовым и Санкт-Петербургской городской думой, едва не приведший к отставке Н.А. Милютина. Безобразов был убежденным противником общинного землевладения и защитником помещичьих привилегий. Высказывается предположение, что в одном из первоначальных вариантов романа Достоевский планировал сделать Н. Безобразова главным прототипом Ставрогина, а конфликт Ставрогина и Шатова - центральным, но вскоре отказался от этой идеи и передал часть безобразовских черт и идей Артемию Павловичу Гаганову, стоящему во главе крепостнического оппозиционного кружка. Эта идея развивает гипотезу историка М. Долбилова. В конце статьи намечаются перспективы для дальнейших исследований в этом направлении.
Ф.м. достоевский, роман бесы, записные тетради, ставрогин, в.п. безобразов, н.а. безобразов, крестьянская реформа, партия вести
Короткий адрес: https://sciup.org/149139279
IDR: 149139279 | DOI: 10.54770/20729316_2021_4_98
Текст научной статьи О "дурачке Безобразове": штрихи к творческой истории романа Ф.М. Достоевского "Бесы"
Эта статья будет выстроена вокруг двух гипотез, обе из них принадлежат не нам. Наша скромная задача в том, чтобы предложить возможную аргументацию в пользу этих предположений и выявить их взаимосвязь. Обе гипотезы указывают на важные факты творческой истории романа Достоевского «Бесы», дополняя наше представление о движении писательского замысла. Начнем с гипотезы, по-видимому впервые предложенной Р.Г. Назировым в черновых материалах к его незаконченной монографии.
В записной тетради № II (РГБ, ф. 93,1.1.4), наброски в которой условно относятся к январю - марту 1870 г, на стр. 76 Князь (прообраз Ставрогина) дважды сравнивается с неким Безобразовым. Первый раз эта фамилия появляется на полях в верхней части листа. Достоевский развивает одну и ту же фабульную ситуацию: вернувшись в губернский город после долгого отсутствия, Князь связывается с Нечаевым (он же Студент, будущий Петр Верховенский) и становится соучастником убийства, жертвой которого, по всей видимости, является Ш. (Шапошников, Шатов). В планах Достоевского степень и смысл соучастия Князя варьируются. Писатель отображает несколько возможных версий сюжета: в первом случае «Нечаев Князя в убийство втягивает и убийцей делает»; во втором преступные намерения Нечаева, очевидно, расстраиваются: «Князь гораздо сильнее и пронизывает Нечаева<,> желающего его сделать убийцей»; в третьей версии «Князь соблазняется уже убить; но убийство совершается поскорей без него, по легкомыслию Нечаева» - здесь речь о непосредственном участии Князя в злодеянии уже не идет, но именно совпадение ошеломляет героя, в ре-

зультате чего тот раскаивается и даже идет на чистосердечное признание властям; запись под номером (4) не является самостоятельным сюжетным вариантом, в ней Достоевский конкретизирует психологическую канву событий: «Князь страстно любит воспитанницу и в то<>же время обида от моего крепостного!» К этому пункту, который в конечном счете окажется едва ли не самым важным в анализе, мы еще вернемся.
В тетради Достоевский вписывает сравнение Князя с Безобразовым на полях, соединяя этот фрагмент с первым пунктом. Именно так расшифровывается этот фрагмент и у Е.Н. Коншиной [Записные тетради 1935, 169], и ПСС1 [Достоевский 1972 -1990, XI, 124]: «Нечаев Князя в убийство втягивает и убийцей делает. (Стало быть<,> глуп<,> как Безобразов)».
Второй фрагмент, где появляется Безобразов, встречаем в нижней части страницы. Здесь Достоевский подробно описывает попытки окружающих понять Князя, разгадать его, но даже матери героя это оказывается не по силам. «Иные считают его нигилистом (и. пр. мать) да и слывет он вообще За нигилиста. Только Гр-й видит что Это не нигилист (но кто же?) Думает что самонадеянный дурачок (Безобразов) каких много из них. Князь всё смеется, - Это коробит Гр-го. Гр-й думает наконец, что Князь в руках у Нечаева». Гр-й здесь - это Грановский, прообраз Степана Трофимовича Верховенского.
Далее психологический портрет героя становится более многогранным. Князь предстает то в облике шута, то предельно серьезным, то безгранично нежным. Он многое подмечает вокруг себя, внушая собственной матери страх. Наконец, и Нечаев понимает, что не сможет вынудить Князя исполнить убийство. Намеченный план пришлось отвергнуть, но теперь Нечаев знает, что Князь осведомлен о его цели. Он вынужден избегать Князя и питать на его счет подозрения. Как видно из нашего пересказа, весь текст в нижней половине страницы продолжает второй фабульный вариант, предполагающий психологическую победу Князя над Нечаевым и отмену покушения - во всяком случае, попытку втянуть в него Князя и «повязать» пролитой кровью.
Тематическая и смысловая связь двух фрагментов на странице дала повод к текстологическим расхождениям при расшифровке. Большую часть текста на с. 76 пересекает четкая диагональная черта. По мнению текстологов ПССр эта линия соединяет пункт 2 вверху страницы с текстом внизу, который начинается со слов «и решает разом убийство другим путем...». Текст продолжается на следующей странице [см.: Достоевский 1972-1990, XI, 124]. Из процитированного примечания остается не совсем ясна судьба промежуточного текстового фрагмента: исключен ли он Достоевским, оставлен ли в качестве основного текста или переквалифицирован в факультативный? Трактовка Е.Н. Коншиной определеннее и проще: сточки зрения исследовательницы, весь текст, начиная с пункта 3 в верхней части страницы и до самого ее конца был писателем вычеркнут [Записные тетради 1935, 169-170]. Слабой стороной этой интерпретации оказывается как раз продолжение связного (и не зачеркнутого!) текста на

с. 77. Обратим при этом внимание, что от пункта 3 и до конца с. 76 черновой текст Достоевского может быть прочитан как вместе с «зачеркнутым/ не зачеркнутым» куском, так и без него: вариативность прочтений в данном случае не влияет на магистральный сюжет.
Итак, кто же такой Безобразов! Н.Ф. Буданова в примечаниях к записной тетради II ограничивается достаточно сжатым пояснением: «Очевидно, речь идет о В.П. Безобразове (1828-1889), русском экономисте и публицисте» [Достоевский 1972-1990, XII, 343]. Данное толкование представляется недостаточно обоснованным. Владимир Павлович Безобразов был одним из виднейших либеральных экономистов своего времени. Современникам он запомнился как авторитетный публицист по вопросам государственного права, теории местного самоуправления, проблемам поземельного кредита и промышленности. Кроме того, Безобразов был заметным участником литературной жизни, в частности, был владельцем успешной частной типографии на Васильевском острове. У Безобразова в 1871 г. будет напечатано отдельное издание «Вечного мужа» Достоевского. Сам писатель должен был знать Безобразова по меньшей мере с конца 40-х гг. Владимир Безобразов принадлежал к тому же кругу недавних лицеистов, а ныне основателей и завсегдатаев молодежных интеллектуальных кружков, что и М.В. Петрашевский, Н.А. Спешнев, Н.С. Каш-кин, Е.С. Есаков, А.И. Европеус, Е.И. Ламанский и др. Безобразов посетил по меньшей мере одно собрание у А.Н. Плещеева [Дело петрашевцев, III, 24, 309, 314]. Именно об этом посещении вспоминает Достоевский в показаниях Следственной комиссии по делу петрашевцев [Достоевский 1972-1990, XVIII, 170]. Позиции Достоевского и В.П. Безобразова по ряду значимых общественных вопросов можно считать сходными-, так, в статье «Наши “охранители” и наши “прогрессисты”», напечатанной в октябрьской книжке «Русского вестника» за 1869 г, Владимир Безобразов, как и Достоевский, развивает мысль о политическом родстве леворадикальной и олигархической оппозиции: оба политических течения сознательно раздувают общественные проблемы с целью торпедировать благотворные правительственные реформы. Статья вызвала крайне болезненную реакцию М.Е. Салтыкова-Щедрина. Писатель счел отождествление позиций «Отечественных записок» и газеты «Весть» нечистоплотным и низкопробным полемическим приемом. В ответном тексте «Человек, который смеется» (1869) Щедрин писал: «Для чего могла понадобиться подобная подтасовка? - этого одного вопроса достаточно, чтоб смутить каждого» [Салтыков-Щедрин 1965-1977, IX, 142]. З.С. Борщевский помещал статью В.П. Безобразова в общий контекст кампании против «Отечественных записок», выходивших под редакцией Салтыкова с лета 1868 г. Кроме того, Борщевский обращал внимание на письмо Достоевского А.Н. Майкову 18 февраля (1 марта) 1868 г, которое в точности предвосхищает тезисы статьи Безобразова: «А что Салтыков на земство нападает, то так и должно. Наш либерал не может не быть в то же самое время закоренелым врагом России и сознательным. Пусть хоть что-нибудь удастся в России или в чем-нибудь
ей выгода -ив нем уж яд разливается. Я это тысячу раз замечал. Наша крайняя либеральная партия в высшей степени стакнулась с “Вестью”, и не может быть иначе» [Достоевский 1972-1990, XXVIII, 258; Борщевский 1956, 159-162]. Те же идеи находят отражение и в замысле «Бесов». Губернаторша фон Лембке отстаивает «принцип крупного землевладения. Из тех именно консерваторов, которые не прочь связаться с нигилистами, чтоб произвести бурду» (РГБ, ф. 93,1.1.5, с. 60) [Достоевский 1972-1990, XI, 234]. Ту же подоплеку имеет и другая запись: «Некоторое время Княгиня бредила о боярской партии и сошлась с Нечаевым, ибо нигилисты с боярами сходятся. Уверена, что и Князь боярин» (РГБ, ф. 93, 1.1.4) [Достоевский 1972-1990, XI, 101]. Княгиня в процитированном отрывке - это прообраз Варвары Петровны Ставрогиной.
Первым, кто отверг версию Н.Ф. Будановой, следует, по-видимому, считать РГ Назирова. В материалах своей незаконченной монографии уфимский ученый утверждал: Достоевский в данном случае пишет «о надменном крепостнике Николае Безобразове, одном из глашатаев аристократической оппозиции против реформ Александра II. Этот Безобразов в 1862 году выступил с предложением пересмотреть “Положения 19 февраля 1861 года”, а в 1863 явился одним из основателей газеты “Весть”, которая ставила целью “исправление ошибки 19 февраля 1861 года” - т.е. требовал реставрации крепостного права» [Назиров 2013, 61-62]. Несмотря на убедительность этой гипотезы, она нуждается в дополнительных разъяснениях, каковые и будут представлены в нашей статье. Если с Князем в комментируемом отрывке соотносится не кто иной, как Николай Безобразов, то почему он самонадеянный дурачокЧ
Николай Александрович Безобразов (1816-1867) принадлежал к одной из ветвей старинного дворянского рода Безобразовых и был племянником А.Ф. Орлова - участника подавления декабристского восстания, успешного дипломата, начальника III отделения и командующего корпусом жандармов. При Александре II Орлов на посту председателя Государственного совета и Комитета министров будет привлечен к подготовке основных положений крестьянской реформы до тех пор, пока в 1860 г. не выйдет в отставку по болезни. Сподвижником Николая Безобразова по работе в газете «Весть» и помещичьей оппозиции станет его родной брат Михаил Безобразов (1815-1887). Младший брат Николая и Михаила Федор Александрович Безобразов (1820-1866) был соучеником Достоевского по Инженерному училищу (с января 1838 г), а затем и его сослуживцем (в 1843-1844) в Чертежной Инженерного департамента (см. [Якубович 1983, 181; Маскевич, Тихомиров 2013, 97, 98, 100]).
В 1835 г. Николай Безобразов оканчивает юридический факультет Петербургского университета, а в 1838 г. защищает магистерскую диссертацию. Ученая степень по правоведению сыграла двоякую роль в интеллектуальной биографии Безобразова-публициста и в становлении его репутации. Защищая социальный статус и благосостояние крупных землевладельцев, он часто апеллировал к действующим законам и правовым
обычаям. Очевидно, поэтому Безобразов считал полезным напоминать читателю о своей компетентности в юридических вопросах (см. [Безобразов 1858], [Безобразов I860], [Безобразов 1862]). В самом прибавлении не было ничего необычного или курьезного, но поскольку теории, которые автор пытался освятить своей ученой степенью, многим современникам казались экзотическими или вовсе абсурдными, словосочетание «магистр правоведения (законоведения) Безобразов» стало восприниматься иронически. Н.Г. Чернышевский посвятил разбору безобразовских построений отдельный фельетон в № 8 «Свистка». Само заглавие публикации - «Опыты открытий и изобретений. Г. Магистр Н. де-Безобразов - псевдоним!» -обыгрывает не только ученые, но и аристократические претензии Безобразова. 26 сентября 1862 г. министр внутренних дел Валуев записывает в своем дневнике: «Перед обедом был у меня Безобразов - магистр правоведения. Между им и сумасшедшим различия немного» [Валуев 1961, 191].
В дореформенный период Николай Безобразов делает хорошую административную карьеру. Прослужив около десяти лет в министерстве иностранных дел, он становится чиновником особых поручений при управляющем делами Комитета министров, числится по I отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии. К 36 годам Безобразов - камергер, действительный статский советник, уездный предводитель дворянства в Петербургскойгубернии [Войналович, Кармазинская 1989, 199]. Через несколько лет положение молодого чиновника кардинально изменится: он будет втянут в водоворот политической борьбы и проиграет ее. Карьера Безобразова будет разрушена, а сам он станет фигурой во многом анекдотической.
Еще до активной фазы подготовки крестьянской реформы большинство дворянских интеллектуалов понимало: Россия, вслед за Европой, стоит на пороге серьезных классовых трансформаций, и классу помещиков суждено либо исчезнуть, либо приспособиться к новым реалиям. Газета «Весть» мыслилась как орган крупных землевладельцев, не готовых утрачивать свою классовую идентичность. Они не желали ни растворяться в земстве, ни делиться правом политического представительства с другими сословиями, ни слагать с себя былых прерогатив, даже признавая необходимость отмены крепостного права. Вопрос состоял не в том, освободят ли крестьян, а в том, как это отразится на общественном статусе и финансовом благополучии бывших крепостников.
Одним из программных документов олигархической оппозиции стали «Предложения дворянству» (1862) Николая Безобразова, изданные отдельной брошюрой в Берлине. Главное, что тревожит автора «Предложений», -лишение помещиков их прежней власти на местах. Безобразов разделяет два юридических источника, на которых основано само существование дворянства как сословия. Во-первых, это Манифест о вольности дворянства (1762), подписанный императором Петром III, и Жалованная грамота дворянству(1785), подписанная Екатериной II. Для Безобразова эти документы священны - они сопоставимы с Великой хартией вольностей, это

настоящая дворянская конституция. Положение о поместных крестьянах, составившее основу реформы 1861 г, считает Безобразов, прямо противоречит букве и духу этих еще никем не отмененных указов, нарушая неприкосновенность дворян и их имущества. Вторым источником сословного статуса дворянина является право землевладения. Переход земли под власть крестьянской общины таит в себе множество угроз и бедствий. «Отделение помещичьей земли, в виде мирской или общественной, порождает к сей земле двух собственников: одного - по праву вечного владения; а другого - по праву вечного пользования. Эти два права несовместны: ибо к одному и тому же предмету двух собственников существовать не может. <.. .> Признание в общине прав гражданства и самобытной личности есть явление совершенно новое в нашем законодательстве: это - опыт... несколько носящий на себе признаки коммунизма... и который вряд ли оправдается успехом...» [Безобразов 1862, 18-19]. Общинное владение землей скоро приведет деревню к нравственному упадку, а усадебные хозяйства - к гибели. Витиеватый стиль автора наглядно раскрывается в том абзаце брошюры, где поясняется, что передача земли в собственность нерадивым и бесхозяйственным крестьянам ослабит «естественный будильник, понуждающий всех и каждого к неусыпному труду» [Безобразов 1862, 28].
Подобная система суждений была типична для «партии “Вести”», которую куда чаще обвиняли не в желании реставрировать крепостное право, а в стремлении развязать войну помещиков со своими бывшими крепостными - войну за права собственности на землю, право аренды наделов, за раздел доходов и право местного самоуправления (о последнем речь чуть ниже). Напомним, что именно этим рецептам следует главный герой сказки Щедрина «Дикий помещик» (1869). На протяжении всей сказки помещик читает газету «Весть», до тех пор пока издание не конфискует у него капитан-исправник.
Вестевцы, по всей видимости, сознательно взяли курс на дискредитацию крестьян как потенциальных собственников земли, что также работало на специфическую репутацию издания. Призыв к борьбе за имущественные права помещиков естественно сочетался в сознании вестевцев с проповедью антиэгалитаризма. Авторы «Вести» последовательно разоблачали неуместную, на их взгляд, идеализацию крестьянского мира, издевательски называли славянофильское учение «мужикофильским». В начале 1860-х гг. на эти голоса обращал внимание и Достоевский: «А теперь вот начинаются даже признаки какого-то желания зла нашему мужику, какого-то отмщения ему за то, что до сих пор все так за него стояли и так за него распинались. Проглядывает даже ненависть. Это мы особенно заметилив новом органе, в газете “Русский листок”***. Это самый куражливый из всех новых органов» [Достоевский 1972-1990, XX, 69]. Далее писатель оговаривался, что не считает причиной подобных выпадов со стороны редактора газеты В.Д. Скарятина «пошлое плантаторское мщение», а крайности
в изображении мужиков демократическими авторами в самом деле имеют место. Тем не менее едва ли почвенник Достоевский мог сочувствовать тону подобных публикаций.
Была ли, с точки зрения Николая Безобразова, альтернатива реформе 1861 г.? Обратимся к его самому известному сочинению - «Об усовер-шении узаконений, касающихся до вотчинных прав дворянства» (1858). В ней Безобразов предложил внимательнее изучить свод законов Российской империи. Освобождение крестьян с землей приведет, с точки зрения магистра, к ненужным социальным потрясениям, создаст период нестабильности и неопределенности, опасный для государства и граждан. Чтобы найти верное решение, нужно точно определить цель предполагаемой крестьянской реформы. Эта цель - облегчение положения крепостных, возвращение им человеческого достоинства.Крестьянин должен перестать быть товаром. Однако, как открыл Н. Безобразов, отношение помещиков к крестьянам как к рабам и живому товару и так не соответствует действующим законам. Причина злоупотреблений кроется в смешении двух видов права, при помощикоторых регулируется сельская жизнь: собственно крепостного права и права вотчинного (поместного) управления. Помещик является единственным и безусловным собственником земли. Он же управляет жизнью поместья. Смешение обоих прав привело к возникновению ошибочного представления, будто сами крестьяне прикреплены к земле, те. приравниваются к имуществу хозяина земли. Такой правовой нормы никогда не существовало. Следовательно,чтобы прекратить произвол, достаточно упорядочить отношения крестьян к помещикам и издать Вотчинный устав, не допускающий превратных толкований закона. В частности, Безобразов предложил «исправить форму составления купчих крепостей, выключив из оной исчисление душ», а также «изменить редакцию всех статей свода законов, касающихся до помещичьей власти, назвав ее правом вотчинного или поместного управления; должно исчезнуть название крепостное право в применении его к людям...» Что касается крепостных, то для них Безобразов предлагает новое название - «люди, в помещичьем ведомстве состоящие».
Современники встретили эту программу с недоумением и насмешкой. Уже известный нам однофамилец магистра законоведения, Владимир Безобразов иронизировал: «Итак, вот вся тайна великого дела, над которым ломает себе голову бедная Россия, над которымтрудятся наши писатели и помещики! Простое недоразумение, более ничего» [-д-ъ 1858, 156].
Подробный и уничтожающий разбор сочинения Н. Безобразова составил для «Колокола» Н.П. Огарев. С его точки зрения, главный вред от записки камергера в том, что она юридически обосновывает возможность закрепить земли только за помещиками, одарив их правом сгонять крестьян с наделов за малейшие провинности [Огарев 1858, 118]. Как и Владимир Безобразов, Огарев не может пройти мимо «иезуитских» рекомендаций Николая Безобразова, снабжая обширные выписки из сочинения комментариями: «Изменить название и оставить факт! Это крайний
предел иезуитизма. <.. .> Как ни называй Федула Клеопатрой, он все-таки останется Федулом» [Огарев 1858, 120]. Советы Безобразова произвели сильное впечатление и на Герцена, отозвавшегося на них в статьях «Колокола» «Фанатик паспортов» и «1 июля 1858» (см. [Герцен 1954-1966, XIII, 288, 297]).
В 1860 г. в Берлине вышел первый том «Материалов для истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян в России в царствование императора Александра II». Подробный анализ этого труда представлен в одной из работ М.Д. Долбилова. Долбилов приводит примеры того, как под влиянием оценок, данных составителем «Материалов», люди, принимавшие непосредственное участие в разработке и практической реализации реформы, исправляли свои же воспоминания, переставая безоговорочно доверять собственному опыту. Таким образом, «это сочинение заложило традицию мифотворчества вокруг реформы, укорененную в научном сознании и неустранимую без скрупулезной саморефлек-сии» [Долбилов 2004, 271] (см. также [Захарова 1984, 21]). Авторство книги вызывает разногласия исследователей. Составителем «Материалов», как правило, называют гофмейстера, сенатора Д.П. Хрущова (1816-1864). Некоторые исследователи считают «Материалы» плодом коллективной работы и дополняют список составителей именами Н.А. Милютина и В.А. Черкасского (см. [Долбилов 2004, 269-270]).
В книге обнаруживаем указание на интересный для нашего анализа сюжет. Как пишет автор, Николай Безобразов «приобрел около этого же времени весьма жалкую известность своею бессмысленною оппозициею против причисления его как домовладельца к составу С. Петербургского городского общества, которое он называл средним сословием. Вообще он отличался надменностию, глубокою самоуверенностию и какими-то превратными понятиями о необходимости исключительного положения дворянства, которые излагал в пышных, но нелепых фразах» [Материалы 1860, 253-254].
Если автор книги действительно Хрущов, то перед нами свидетельство непосредственного участника происшествия, так как именно он в 1858 г. был старшиной Санкт-Петербургской городской думы. Городская дума, пришедшая на смену прежней Шестигласной думе, к тому времени существовала уже около двенадцати лет. В 1840-е гг. Н.А. Милютин, в ту пору молодой руководитель городского отделения хозяйственного департамента Министерства внутренних дел, разработал по поручению министра Перовского проект нового городового положения, утвержденный императором Николаем I в 1846 г. Как вспоминала вдова реформатора, М.А. Милютина, несмотря на благоволение царя, реформа городского управления была встречена в штыки: столичное дворянство было недовольно тем, что теперь оно составляло всего лишь пятую часть депутатов, помещики были «унижены» необходимостью заседать совместно с «мужиками», а «сама обстановка этих заседаний (кафедра для речей, стенографирование, публичность) напоминала парламентарные порядки» [Зайцев 2016, 278].
Согласно мемуарам Милютиной, главным врагом думы с самого начала оказался именно Н.А. Безобразов. «Исполненный дворянской спеси, он уже тогда интриговал против НиколаяАлексеевича и всячески ему противодействовал» [Милютина 1899, 47]. Тем не менее подрывная работа Безобразова долгое время не оказывала серьезного воздействия как на думу, так и на карьеруМилютина.
Новый импульс борьбе дворянских консерваторов с думой придает назначение в 1854 г. военным генерал-губернатором Петербурга П.Н. Игнатьева. По воспоминаниям М.А.Милютиной, Игнатьев с самого назначения искал удобного повода атаковать депутатское собрание [Милютина 1899, 47]. Повод представился летом 1858 г. В это время городская дума решила прислать всем без исключения петербургским домовладельцам почетные обывательские грамоты, подтверждавшие их право участвовать в управлении городом при помощи выборных лиц. Такой документ был прислан и камергеру Безобразову, устроившему в ответ целую политическую акцию. Безобразов вернул свой диплом через управляющего домом, прибавив к этому письмо, в котором давал понять, что не только не нуждается в таких документах, но что городская дума не имела права как высылать ему что-либо подобное, так и требовать каких-либо официальных действий с его стороны. Старшина думы, гофмейстер Д.П. Хрущов, изумившись поведением аристократа, решил обнародовать всю историю через журнал «Русский вестник». Обратимся напрямую к октябрьской книжке издания, чтобы полнее представить себе случившееся.
В небольшой заметке «Современной летописи» цитируется сообщение, переданное управляющим камергера, неким губернским секретарем Гороховцевым: «...грамоту эту его превосходительство не находит для себя нужною; ибо права свои на дом он основывает на крепостном документе; принадлежность же его к дворянскому сословию удостоверяется дворянскою грамотою» [Современная летопись 1858, 343]. Когда же городской голова запросил объяснений лично от Безобразова, а не от третьих лиц, то получил ответ от военного генерал-губернатора. Ответ, в частности, гласил: «В прошении, поданном на имя г. С.-Петербургского военного генерал-губернатора, г. Безобразов присовокуплял, что, принадлежа к одному из родов древних великороссийских дворян московских, он и семья его имеют уже на это установленные грамоты, о причислении же к городскому обществу они не просили и до времени просить не желают. Он указывал также на то, что в силу статей 458, 459 и 460 IX т. Св<ода> Зак<онов> городское общество непосредственно составляется городскими обывателями в особенности,то есть лицами, причисленными к среднему роду людей» [Современная летопись 1858, 344].
Официальный ответ думы на безобразовский демарш полон неприкрытой иронии по отношению к гордому дворянину: «...отказ г. Безобразова в принятии обывательской грамоты,основанный, как видно из прошения его, на опасении быть причисленным к среднему роду людей, тогда как он принадлежит к одному из родов древних великороссийских дворян
московских, не имеет со стороны закона никакого оправдания» [Современная летопись 1858, 345]. В результате городскаядума вынесла Безобразову нечто вроде общественного порицания. Этот-то документ и попалв редакцию «Русского вестника». Скорее всего, Н.А. Безобразовым была задумана провокация с целью показать несерьезность, правовую несостоятельность думы, но с публикацией думского постановления ситуация вышла из-под контроля: почтенный сановникбыл выставлен на посмешище. Фраза из письма в думу о нежелании принадлежать к «людямсреднего рода» стала известным печатным курьезом. «Безобразов и Игнатьев очутились в пренеприятном положении, - записывает в своем дневнике 19 ноября 1858 г. цензор А.В. Никитенко. - Решение свое (протокол) Дума напечатала для рассылки членам, но оно ходило по городу и, путешествуя из рук в руки, дошло до Москвы, где Катков и тиснул его целиком в своем журнале» [Никитенко 1955, 44]. Явный и каламбурный намек на описанную историю находим ив заключении статьи Владимира Безобразова «Аристократия и интересы дворянства» (1859): «...невозможно призывать на помощь безобразные сословные притязания, чуждые нам теории о каких-то различиях высшего, среднего и низшего рода людей; при этом необходим дружный союз всех элементов общества» [В. Безобразов 1882, 264].
Неизвестно, в какой степени все произошедшее после октябрьской публикации было запланированным эффектом. Так или иначе, взбешенный Безобразов обратился за покровительством к своему дяде - главе российского правительства А.Ф. Орлову. Конфликт Безобразова с городскими депутатами стал предметом рассмотрения всего правительства. «Буря разразилась страшная; содрогнулся совет министров. <...> Думу обвиняли в государственной измене, и обвинение это бросалось главным образом на Николая Алексеевича...» [Милютина 1899, 48] По словам М.А. Милютиной, только личное заступничество перед царем министра внутренних дел С.С. Ланского спасло ее мужа от отставки, позволив ему в скором времени принять самое активное участие в подготовке великих реформ. Петербургская городская дума также устояла, получив от Совета министров лишь выговор и повеление изменить городовое положение.
И все же анекдотическая история имела ряд серьезных последствий. Скандал с Думой, несмотря на то что Н.А. Милютин не имел к нему личного отношения, закрепил за ним репутацию «красного», чрезмерно радикального реформатора, которому нельзя всецело доверять. Оппоненты либеральных реформистов усилили свои аппаратные позиции. Неприятные последствия постигли и русскую печать. 7 декабря 1858 г. Никитенко записывает в дневнике, что ряд неосторожных публикаций последнего времени, включая «знаменитый думский протокол» навлекли опалу на «Русский вестник», а главное, привели к отставке лояльного либеральным журналам цензора Н.Ф. фон Крузе [Никитенко 1955, 48]. Крузе, в самом деле, пользовался уважением, и перспектива его отставки, последовавшей в 1859 г, в конце 1858 г. воспринималась современниками очень болез-
ненно (см. письма А.И. Кошелева от 21 ноября 1858 г. и И.С. Аксакова от 28 ноября 1858 г. В.А. Черкасскому [Трубецкая 1901, 237, 242]). В этой статье у нас нет возможности подробно осветить деятельность и причины карьерного фиаско Крузе, поэтому сошлемся на работу С.А. Репинецкого [Репинецкий 2011]. Для нас важно, что по крайней мере часть современников (Никитенко, Кошелев, Иван Аксаков) соотносила это событие со скандалом вокруг «Русского вестника», что явно не улучшало репутацию Николая Безобразова. 20 октября 1867 г. князь В.Ф. Одоевский, не раз бывший свидетелем публичных выступлений Безобразова, после его кончины записывает в дневнике: «Умер Николай Безобразов. “Весть”, объявляя о его смерти, говорит, что он был ее основателем. Что же мудреного, что “Весть” достигла до настоящего своего безобразия. Ник. Безобразов был помешан на противудействии 19-му февраля, и на политическом значении дворянства. Одну статью он подписал: дворянин Божиею мило-стию» [Одоевский 1935, 235].
Одним из возможных вариантов сюжетного перехода становится ото- ждествление героя с «дурачком Безобразовым». Здесь Безобразов - это глупый и самонадеянный аристократ, способный убить своего бывшего крепостного из самолюбия, барской спеси, нелюбви и недоверия к мужикам. Способность к убийству становится главной чертой, определяющей всего героя.
В романе этот сюжет в итоге трансформируется. Именно к Ставрогину постоянно применяются такие эпитеты, как «барчонок», «барич», «принц». Более того, именно к аристократизму Ставрогина апеллирует в одной из сцен Петр Верховенский: «Вы ужасный аристократ. Аристократ, когда идет в демократию, обаятелен!» [Достоевский 1972-1990, X, 323-324]. Однако Достоевский резко переворачивает коллизию, намеченную в записной тетради. Аристократ, принц, солнце, Ставрогин выдерживает пощечину как раз от своего бывшего крепостного. Хроникер уделяет этой сцене особенное внимание, анализируя мельчайшие ее подробности (см. [Достоевский 1972-1990, X, 164-165]). Такая психологическая детализация представляется неслучайной по целому ряду причин, но в том числе и в связи с «безобразовским наброском». В личной переписке с нами М.Д. Долбилов поделился предположением, что носителем ценностей аристократической оппозиции, которые так рьяно пропагандировала «Весть», был в романе не кто иной, как Артемий Павлович Гаганов, что, правда, подтверждается целым рядом указаний. Мы не рискнем утверждать, что Николай Безобразов как прототип «отдан» именно этому персонажу. Однако все карикатурное, гротескное, примитивное, что есть в русском «лордстве», Достоевский, несомненно, делегирует младшему Гаганову. Писатель определенно удаляет образ Ставрогина от того типажа, которому соответствует характеристика «самонадеянный дурачок».
Основной вопрос, беспокоящий пристрастный аристократический круг во время дуэли Ставрогина с Гагановым: соответствуют ли ставро-гинские поступки неписанным нормам сословной чести? Доброе имя Николая Всеволодовича спасает Юлия Михайловна фон Лембке - жена нового губернатора, поклонница «партии “Вести”», при этом заигрывающая с демократической молодежью: «Разве возможно удивление, что Ставрогин дрался с Гагановым и не отвечал студенту? Не мог же он вызвать на поединок бывшего крепостного своего человека!» [Достоевский 1972-1990, X, 233]
Излишне пояснять, что это объяснение не имеет ничего общего с подлинной мотивацией поступков Ставрогина, сознательно деконструирующего дворянский этос на протяжении всего повествования (в том числе в сценах с отцом и сыном Гагановыми).
Список литературы О "дурачке Безобразове": штрихи к творческой истории романа Ф.М. Достоевского "Бесы"
- Безобразов В.П. Государство и общество. Управление, самоуправление и судебная власть. Статьи. СПб.: Типография В. Безобразова и комп., 1882. 734 с.
- Безобразов Н.А. Об усовершении узаконений, касающихся до вотчинных прав дворянства. Берлин: Э. Бок, 1858. 42 c.
- Безобразов Н.А. По вотчинному вопросу мнение и развязка. ^ч. Николая Безобразова, магистра законоведения. Берлин: B. Behr (E. Bock), i860. 88 с.
- Безобразов Н.А. Предложения дворянству. Берлин: B. Behr (E. Bock), 1862. 107 c.
- Борщевский З.С Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы. М.: Гослитиздат, 1956. 392 c.
- Валуев П.А. Дневники П.А. Валуева, министра внутренних дел: В 2 т. Т. i. М.: Издательство АН CCCT, i96i. 422 c.
- 7 Войналович E^., Кармазинская М.А. Безобразов Николай Александрович II Русские писатели 1800-1917. Биографический словарь. Т. i. М.: Издательство «Cоветская энциклопедия», 1989. C. 198-199.
- Герцен А.И. ^брание сочинений: В 30 т. М.: Издательство АН CCCT, Наука, 1954-1966.
- Дело петрашевцев. Т. 3. М.; Л.: Издательство АН CCCT, 1951. 519 с.
- Долбилов М.Д. Полезная недостоверность: о критике мемуарных сочинений творцов крестьянской эмансипации II «Цепь непрерывного предания.»: C6. памяти А.Г. Тартаковского. М.: РГГУ 2004. C. 266-294.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. Л.: Наука, 19721990.
- -д-ъ [Безобразов В.П.] Cвет из Милана по крестьянскому вопросу, или Дума русского патриота под липами (Unter den Linden) II Русский вестник. 1858. Т. XV. ^временная летопись. C. 153-158.
- Зайцев М.В. Николай Милютин и реформа городского самоуправления 1846 года в Cанкт- Петербурге II Известия Cаратовского университета Новая серия. Cерия «История. Международные отношения». 2016. № 3. C. 275-282.
- Записные тетради Ф.М. Достоевского I Подг. E.H Коншиной, И.И. Игна-товой.М.; Л.: Academia, 1935. 472 с.
- Захарова Л.Г. Cамодержавие и отмена крепостного права в России: 18561861. М.: Издательство МГУ, 1984. 254 c.
- Маскевич E^., Тихомиров Б.Н. Достоевский в Чертежной Инженерного департамента (Новые материалы к биографии, 1843-1844 гг.) II Неизвестный Достоевский. 2019. № 2. C. 94-109.
- Материалы для истории упразднения крепостного состояния помещичьих крестьян в России в царствование императора Александра II. Vol. i. Берлин: F. Schneider, i860. 416 c.
- Милютина М.А. Из записок Марии Аггеевны Милютиной II Русская старина. 1899. Т. 97. Вып. i. C. 39-65; Вып. 2. C. 265-288; Вып. 3. C. 575-601.
- Назиров Р.Г. Материалы к монографии о романе Ф.М. Достоевского «Бесы» II Назировский архив. 2013. № 2. C. 6-83.
- Никитенко А.В. Дневник: В 3 т. Т. 2. [М.; Л.:] ГИХЛ, 1955. 652 c.
- [Огарев Н.П.] Разбор брошюры Н. Безобразова «Об усовершенствовании узаконений, касающихся до вотчинных прав дворянства» II Колокол. 1858. Лист 15. 15 мая. C. 117-122.
- Одоевский В.Ф. «Текущая хроника и особые происшествия». Дневник II Литературное наследство. Т. 22/24. М., 1935. С. 79-308.
- Репинецкий С.А. Московский цензурный комитет и политика в отношении печати накануне отмены крепостного права // Российская история. 2011. № 2. С. 109-116.
- Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений: В 20 т. М.: Художественная литература, 1965-1977.
- Современная летопись Русского вестника. Т. 17. Октябрь. Кн. 2. М.: типография Каткова, 1858. 382 с.
- Трубецкая О.Н. Материалы для биографии кн. В.А. Черкасского. Т. 1. Кн. 1. М.: Типография Г. Лисснера и А. Гешеля, 1901. 174 с.
- Якубович И.Д. Достоевский в Главном Инженерном училище (Материалы к летописи жизни и творчества писателя) // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 5. Л.: Наука, 1983. С. 179-186.