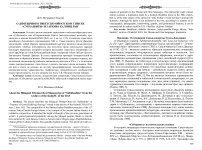О двуязычном тибетско-ойратском списке "Субхашиты" из архива КалмНЦ РАН
Автор: Музраева Деляш Николаевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 3 (58), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье дается описание двуязычного тибетско-ойратского списка «Субхашиты» или «Сокровищницы благих (назидательных) речений», хранящегося в архиве КалмНЦ РАН (Ф-8, оп. I, ед. хр. 155). Сочинение известного индийского буддийского проповедника XIII в. Сакья-пандиты Кунга Джалцан представляет собой образец древнеиндийской шастры, является дидактическим сочинением. Особую популярность оно получило среди монгольских народов благодаря переводам, авторами которых выступают известные литераторы Соном-Гара, Мэргэн-гэгэн Лубсандамбиджалцан, Чахарский гэбши Лубсан-Цултэм, Зая-пандита Намкай Джамцо. В статье приводятся примеры четверостиший на тибетском и ойратском языках. Рассматриваемая рукопись содержит перевод, выполненный калмыцким буддийским священнослужителем в XX в., т.е. на поздних этапах распространения «тодо бичиг» («ясного письма») среди калмыков. Хотя его имя в тексте не указано, но по ряду археографических, палеографических, почерковедческих характеристик, графических, грамматических особенностей можно предположить, что его автором мог быть Э.Б. Убушиев (Агван Табдан).
Буддизм, дидактическая литература, сакья-пандита кунга джалцан, "субхашита", архив калмнц ран, тибетский и ойратский языки, перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/149139039
IDR: 149139039 | DOI: 10.54770/20729316_2021_3_504
Текст научной статьи О двуязычном тибетско-ойратском списке "Субхашиты" из архива КалмНЦ РАН
Введение. О сочинении Сакья-пандиты Гунга-Джалцана
«Субхашита» (санскр. Subhasitaratnanidhi, тиб. Legs par bshad pa’i rin po che’i gter 'Драгоценная сокровищница благих наставлений’) - сочинение известного тибетского ученого XIII в. Сакья-пандиты Гунга-Джалца-на (1182-1251) - является одним из образцов дидактических сочинений, получивших широкую популярность среди тибетцев и монголов. Это произведение, состоящее из стихотворных афоризмов, восходит к древнеиндийским нитишастрам, призванным учить житейской мудрости [Ён-дон 1989, 5]. Перенос на тибетскую и монгольскую почву произведений этого жанра сопровождался появлением многочисленных подражаний. При этом исследователи уточняют, что подобные дидактические сочинения «содержали в себе два начала - житейскую мудрость (нити, артха) и религиозную мораль (дхарму)», соотношение которых могло быть неравнозначным [Ёндон 1989, 5]. Что же касается основных характеристик дидактических сочинений в тибетской и монгольской литературах, то для них характерно именно соединение этих двух начал (правил), что нашло отражение в названии этого жанра - «поучения (или шастры) двух правил» [Ёндон 1989, 5].
Сочинение Сакья-пандиты неоднократно выступало объектом перевода (А. Чома де Кереши, Ф. Фуко, А. Шифнер, В. Кемпбелл, Л. Стернбах, Л. Лигети, Дж. Боссон, Ц. Дамдинсурэн, Ж. Дугэржав и др.) и исследования (Г. Рамстедт, П. Аалто, В.С. Дылыкова, Н.Д. Болсохоева, Д. Ёндон, Т.М. Маланова, С.Г. Атсанавонг и др.). Не менее популярны были комментарии к «Субхашите», составленные с привлечением широко известных сказочных сюжетов [Ёндон 1989]. Детальное описание того, какие именно произведения древнеиндийской литературы, включая такие известные памятники, как «Панчатантра», «Хитопадеша», джатаки и индийские мифы, могли быть использованы комментаторами, составила Н.Д. Болсохоева [Болсохоева 1980].
«Субхашита» на монгольских языках
В истории литературы монгольских народов сочинение Сакья-пандиты занимает особое место. Авторами монгольских переводов являются известные литераторы, среди которых Соном-Гара (конец XIII - начало XIV в.), Урадский Мэргэн-гэгэн Лубсандамбиджалцан (XVIII в.), Чахар-гэбши Лубсан-Цултэм (1779 г.) [МУЗТ II 1976, 614-615; Эрдэнийн сан субашид 1990, 7-9]. Известна версия, составленная бурятским ученым и просветителем Ринчином Номтоевым (Суматиратной) (XIX в.) [Атса-навонг 2012]. Отдельные образцы монгольских переводов «Субхашиты» были включены Ц. Дамдинсурэном в «Сто образцов монгольской литературы» [Jayunbilig 1959, 170-179].
Перевод Чахар-гэбши Лубсан-Цултэма вместе с его комментарием к «Субхашите» были опубликованы Ц. Дамдинсурэном и Ж. Дугэржавом в 1990 г. [Эрдэнийн сан субашид 1990]. По структуре выделяются 9 глав (разделов), в каждой из которых в стихотворной форме разъясняются отдельные положения (тематические блоки).
Сочинение Сакья-пандиты в XVII в. перевел на ойратский язык просветитель и переводчик Зая-пандита Намкай Джамцо (1599-1662). Это отмечено в биографии Зая-Пандиты, составленной его учеником Раднаб-хадрой, который привел полный список переводов своего учителя и его ближайших последователей [SG, л. 9b; Jayunbilig 1959, 329; Лувсанбалдан 1975, 149, 211]. Текст перевода Зая-пандиты был опубликован в сборнике «Памятники “ясного письма”» [OS 1976, 17-63].
Тексты «Субхашиты»в Научном архиве КалмНЦ РАН
Материалы старописьменных источников НА КалмНЦ РАН свидетельствуют о том, что сочинение Сакья-пандиты было не просто знакомо калмыкам и имело хождение в среде верующих, но и служило одним из объектов переводческой практики. Об этом мы можем судить по двум рукописям. Первая из них представляет собой текст «Субхашиты» на тибетском языке Legs bar bshad pa ’i rin po chen gter zhes byas pa zhugs so (‘Драгоценная сокровищница благих наставлений’, шифр ФД-15 (Фонд О.М. Дорджиева - Тугмюд-гавджи), он. I, ед. хр. 121). На титульном листе тибетское название сопровождено записью на ойратском «ясном письме»: Saituiir nomonoqsan erdnin data (‘Драгоценный океан преподанного наилучшим образом’). В начале текста дано его название на санскрите (Subhashitaradnanidhi-nama-shastra), а также приводится более полное тибетское заглавие: Legs par bshad pa rin po che’i gter zhes by a ba’i bstan bcos (‘Шастра, именуемая «Драгоценная сокровищница благих наставлений»’). Согласно колофону, автор сочинения - Kun dga’ rgyal mtshan dpal bzang po (Кунга-Гьялцен Балсанпо).
Особый интерес представляет двуязычный список сочинения Сакья-пандиты, в котором тибетские строки дублируются параллельным ойрат-ским текстом. Оно именуется Legs par bshadpa ’i rin po che ’i gter zhes byas pa ^hugs so (‘Драгоценная сокровищница благих наставлений’, шифр Ф-8 (Фонд редких рукописей и документов), он. I, ед. хр. 115) [TOS], На титуле присутствует и ойратское название Savin nomlalyin erdnin sang ke-mekil orsiba, что адекватно передает названию тибетского первоисточника.
В начале текста приводится санскритское название сочинения - sub-hashitaradnanidhi-nama-shastra [TOS, л. 1а:1]. Здесь же повторно приводится тибетский титул сочинения с уточнением его жанра: Legs par bshadpa

rinpo che 7 gterzhes bya ba 7 bstan bcos ('Шастра, именуемая «Драгоценная сокровищница благих наставлений»’).
Описываемая рукопись поступила в НА КалмНЦ в 1960-х гг. от Э.Б. Убушиева (Агван Табдан) (1905-1981) - одного из последних представителей старшего поколения калмыцких буддийских священнослужителей [Музраева 2018; Музраева 2019]. Анализ графических особенностей, стиля написания, сличение с имеющимися образцами записей, способов передачи текста тибетского оригинала средствами «ясного письма» позволяет нам высказать точку зрения, что подстрочный перевод, записанный на ойратским «тодо бичиг», может принадлежать Э.Б. Убушиеву.
Нам приходится с сожалением отметить, что в отдельных частях двуязычного текста отсутствует ойратский эквивалент перевода, причем эти лакуны встречаются во второй части (пропуски чередуются с местами, заполненными подобранным переводом - это свидетельствует и является иллюстрацией того, как происходил процесс создания рукописных билингв, а также собственно процесс перевода: изначально построчно был расписан тибетский текст, на каждой стороне листа по 3 строки, параллельные длинной стороне листов. На одной строке, как правило, помещались 4 тибетские фразы. Под каждой из трех строк тибетского текста оставлялось место для вписывания текста на «ясном письме». Каждой фразе на тибетском языке соответствует эквивалент перевода (или варианта перевода, взятый автором в круглые скобки). Одной из особенностей графического оформления тибетского текста является использование сокращенного написания тибетских слов. В тех случаях, когда автор-переводчик затруднялся в подборе подходящего перевода, он пропускал это место и переводил следующие фразы-строфы; как итог на ряде листов рукописи мы имеем пустые незаполненные места, на которых должен был находиться ойратский перевод.
Таким образом, данный образец рукописи раскрывает исследователям последовательность и методику составления двуязычного текста, а не просто переписку имеющихся образцов.
Тематика разделов «Субхашиты» (на материале тибетско-ойратского списка)
В описанном выше письменном источнике имеются пропуски в ойрат-ском переводе (мы его называем «ойратский», но уточняем, что выполнен он калмыцким священнослужителем в XX в.), но даже имеющийся в наличии текст дает уникальную возможность ознакомиться в первую очередь с содержанием текста первоисточника на тибетском языке и одновременно с подстрочным его переводом на «ясном письме», отмечая при этом особенности перевода.
Изучив состав и содержание двуязычного списка «Сухашиты», мы можем выделить 9 тематических разделов в нем, название каждого из которых представлено в резюмирующей фразе. К примеру, в 1-м разделе содержатся наставления о том, как распознавать мудрецов.

Далее будут представлены фрагменты перевода на «тодо бичиг». В начале приводится 4-хстрочная строфа (шлока) перевода, записанного на ойратском «ясном письме» в транслитерации на латинице с русским переводом (перевод на рус. яз. наш. - Д.М.\ Каждый пример предваряется цифрой в квадратных скобках, указывающей на порядковый номер соответствующей строфы (всего в тексте «Субхашиты» насчитывается 457 строф; несмотря на то, что в самом тексте нумерация строф отсутствует, монгольские ученые посчитали необходимым ее указать в своих изданиях переводов «Субхашиты» (см. [Эрдэнийн сан субашид 1990; OS]).
erdimin sanggigi suraqson mergen boloxole timi kumun-du erdemte xamoq cuqliiradaqj:]
iki dalii usuni (zoro) sang mon tuli (bolba co)
usun xamaq tunur xuradaq[:]
‘Если являешься мудрецом, обучившимся сокровищам знаний, То все собираются вокруг такого человека.
Поскольку великий океан воистину является сокровищницей воды, (хотя и так), все реки собираются в нем’ [ТОС: л. 2а].
mergen evreni oron-ece cil oron nutuq bustu cigin kiindete boldaqj:]
jindem ni erdeni taldan orondu iki uiinte dalan tib-tu uiinuni baya:
‘Мудрец не только в своей стране, но и в других странах почитаем.
Драгоценность чиндамани в другой стране обладает большой ценностью, на океанском материке ценность ее мала’ [ТОС: л. 5б-6а].
Во 2-м разделе «Субхашиты» тематика наставлений довольно близка к афоризмам первого раздела, поскольку в этом дается объяснение, как распознавать высших персон:
dedesin erdem nudttq bolba си yirtincii bokiindii tuiigugutu totaraxaj:]
namiln ceceq sdituiir butirktiba cu iru iner bokiindii uliidiidaqj:]
‘Хотя высшие и скрывают свои познания, всем в этом мире они очевидны.
Хотя и будут накрывать цветок,
Прекрасное благоухание достигает каждого’ [ТОС: л. 9а].
Большой познавательный интерес заключен в строфах 3-го раздела, в котором автор объясняет читателю, как отличить мудрого от глупца. К этому разделу примыкает 4-й раздел, содержащий афоризмы, показывающие, как одновременно распознать мудрого и глупого. Ниже примеры из этих двух разделов:
aildtl iden unde bayiqson toundii gun kerigin uyde orkin basuige[:]кaзыeaющue, uq idedtin [=inedun] nadii medeqcini suul uge-ёсе kogtisen noxa mon[:]
‘Бегущий (устремляющийся) туда, где есть еда и питье,
Тот, кто оставляет важные дела,
Чья сущность (суть) смеяться и забавляться (играть), Воистину есть старая бесхвостая собака’ [ТОС: л. 14а].
[ЮЗ]
teneqgin erdem aman-dii yaryadaq mergen-yer erdem dotoran-tu onxil xomyol usina derde kovxoj:]
jindem ni derede talibaco jivxuj:]
‘Познания глупца проявляются в речах, мудрец свои знания обдумывает про себя.
Солома плавает на поверхности воды, драгоценность, даже если положишь на поверхность, опускается на дно’ [ТОС: л. 196].
Следующие строки наставлений призваны научить читателя и слушателя определять не благие деяния:
teneqgigi kedu cinen yasadaq bolobace ebercilin sayin bolos uge[:]
nuursigi keceyed uyadaq boloba cii cayan ongge yars uge[:]
‘Сколько бы ни поправлял глупца, сам он не изменится.
Сколько бы ни старался отмыть уголь, он не побелеет’ [ТОС: л. 32а].
Особое место среди афоризмов «Субхашиты» занимают те, в которых просматриваются отголоски древнеиндийской нитишастры - науки правления или руководства, что особенно ярко отмечено в б-м разделе:
хаап masi olon baibe со yosocden tetekedeq masi con[:]

oyotarayo-dii tenggeriyin огон olon bolbo со gerel todaraxil наган sarii mete uge[:]
‘Хотя и много ханов, мало таких, которые заботятся должным образом.
Хотя в небе и много мест тенгриев (небожителей), но нет испускающих свет подобно солнцу и луне’ [ТОС: л. 36а].
tosemel oyiln-lilya tiigiisuqsun-yer ezen kiged albatin kereq boktini biltekil[:]
sumim suduryai mergen-yer xarvaqsan caqta alin-dil tiivlasan-dil tusudeq mon[:] ‘Сановник, в силу того, что преисполнен знаниями, исполняет все дела господина и подданных.
В тот момент, когда стрелу выпускает меткий лучник, куда бы ни направил, определенно достигнет [цели]’ [ТОС: л. 366].
Контрастом приведенным примерам звучат наставления, призванные показать, какими представляются деяния невежественных персон, что показано в 7-м разделе:
eber-yir mutt yobodol ese uyudkulei
Xurmasta yir co musciy ulu citxa[:]
bulttq ever emgete ese xatxali sorau-yir darva co xamiya citxa[:]
‘Если самому не совершать неблаговидных поступков, даже Хормуста не сможет принизить.
Если родник сам не пересохнет, возможно ли, чтобы его засыпало пылью’ [ТОС: л. 496].
В последних двух разделах имеются много пропусков в ойратском переводе, но некоторые строфы переводчик не смог обойти вниманием, например, следующие:
[ЗЮ]
uyttn tdqsu[q]sun saitur tetekexli dodei torlilqtiln dededil bolxil[:]
suryuxige medeqci-nuuyild total sobililn-dil suryilxli umsiixgiy metexil bolxil[:] ‘Если преисполненные мудростью станут заботиться наилучшим образом, низшие существа станут высшими.
Если знающие как следует наставлять станут обучать попугая, то даже и тот научится читать’ [ТОС: л. 54а].
Исследователи не раз отмечали, что именно в 9-м разделе «Субхаши-ты» даны религиозные наставления. Это подтверждает и ойратский перевод:
amitani itkel burxan orsi[n] bayital-du baqsil biistii so:iq oldaqci[:]
nayimin gesitin tdgiisuqsun usani kovedu dabasta xildilq maltaqsan mon[:]
‘В то время как пребывает Будда - прибежище живых существ, обретающие веру в других учителях,
[сродни тому, как] на берегу реки, преисполненной восемью качествами (признаками), выкопать колодец с соленой водой’ [ТОС: л. 69а].
Представленные фрагменты перевода, на наш взгляд, вполне адекватно передают содержание первоисточника. Обстоятельства появления описанного списка в НА КалмНЦ РАН позволяют предположить, что перевод был осуществлен в 1960-е гг, что является ярким примером образца перевода с тибетского языка на ойратский, выполненный калмыцким гелюнгом (священнослужителем) в 1960-е гг. или немногим ранее этого периода.
* * *
В заключение можно хотелось бы подчеркнуть, что работа по переводу буддийских текстов у калмыков не прерывалась и в XX в. Ярким подтверждением тому может послужить тибетской-ойратский список «Суб-хашиты», включающий перевод, который осуществлен Э.Б. Убушиевым. Он неполный, но, тем не менее, позволяет составить представление об известном памятнике средневековой дидактической тибетской литературы, познакомиться с его содержанием.
Проанализированный материал двуязычной рукописи раскрывает технику создания подобных билингв, среди которых не только лексикографические труды, но и популярные буддийские сочинения, одним из которых является «Субхашита». Помимо этого, рассмотренные тексты позволяют проследить развитие «ясного письма» среди калмыков в XX в. и его адаптацию в условиях меняющейся графики калмыцкого языка, а также изучать технику перевода с тибетского языка на ойратский.