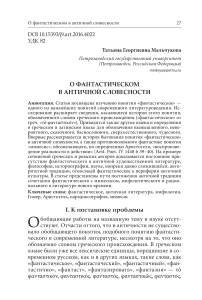О фантастическом в античной словесности
Автор: Мальчукова Татьяна Георгиевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: т.4, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению понятия «фантастическое» - одного из важнейших понятий современного литературоведения. Исследование расширяет сведения, касающиеся истории этого понятия, обозначенного словом греческого происхождения («фантастическое» от греч. «τὸ φανταστικόν»). Приводятся также другие имена и определения в греческом и латинском языке для обозначения вымышленного, невероятного, сказочного, баснословного, сверхъестественного, чудесного. Впервые рассматривается история бытования понятия «фантастическое» в античной словесности, а также противоположного фантастике понятия «мимесис», обозначающего, по определению Аристотеля, «воспроизведение реальности в действии» (Arst. Poet. IV 1448 b 39-40). На примере сочинений греческих и римских авторов доказывается постоянное присутствие фантастического в античной художественной литературе, философии, историографии, науке, вопреки давно сложившейся, авторитетной традиции, относящей фантастическое к периферии античной культуры. В статье представлены пути постижения античной традиции сочетания фантастического с мимесисом, мифологического и рационального в литературе нового времени.
Фантастическое, античная литература, мифология, гомер, аристотель, парадоксография, мимесис
Короткий адрес: https://sciup.org/14748997
IDR: 14748997 | УДК: 82 | DOI: 10.15393/j9.art.2016.4022
Текст научной статьи О фантастическом в античной словесности
I. К постановке проблемы
О бобщающие работы на названную тему в науке отсутствуют. Отчасти оттого, что в античности не существовало обобщающего понятия, подобного понятию фантастического в современной литературе, несмотря на то, что оно обозначено словом греческого происхождения. В греческом языке были уже все лексические единицы, породившие в современном русском, как и в других языках, такие слова, как «фантастическое», «фантастический», «фантастичный», «фантастично», «фантаст», «фантазировать», «фантазия» — τὸ φανταστικόν, φανταστικός, φανταστός, φανταστικῶς, φανταστός,
φαντάζομαι, φαντασιόω, ἡ φαντασία, ἡ φανταστική τέχνη, ἡ φάντασις, τὸ φάντασμα, ὁ φαντασμός, τὸ φαντασμάτιον. Но они обладали несколько иной семантикой. Эта семантика определена их происхождением от глагола φαίνω — являть, показывать, φαινόμενον — явленное, явление, в соотнесении по связи и противоположности с глаголом εἰμί — быть, его причастиями ὤν, ὄν — сущий, сущее, отглагольным существительным ἡ οὐσία — бытие, сущность. Поэтому в греческих дериватах от φαίνω, φαίνομαι — являть, являться — φανταστικόν и φαντασία отчасти ощутимо и значение соответствия реальности, сущности, в той мере, в какой она проявляется, присутствует в явлении: φανταστικόν и φαντασία могли восприниматься как образ действительности, реальности, эквивалентный греческим понятия τὸ εἶδος и ἡ εἰκών [3, 141–142]. Вместе с тем в греческой мысли и слове осознавалась и дистанция между сущим и явленным, неполное, даже искаженное явление сущности, что нашло выражение в противопоставлении являющихся «вещей» и порождающих их «идей» — видов, сущностей в философии Платона. В обыденной речи укреплялась противоположность между «быть» и «казаться» как действительным и желаемым, объективной данностью и субъективными намерениями: μὴ ὢν φαίνεσθαί τι — казаться чем-то, не будучи им на деле. В художественном сознании эта субъективная сторона понимается с положительным знаком, как способность к творческому воображению, в этом значении φαντασία переходит и в европейские языки. Когда Пушкин пишет, что эпос, как и трагедия, комедия, сатира, в большей степени, чем ода, требуют поэтической fantaisie, он поясняет французское слово понятиями: «Творчество, воображение, гениальное знание природы»1.
Поскольку в греческом понятии фантастического присутствовали и реальная истина, и художественная правда — образ действительности, создаваемая поэтом ее модель по законам возможности и вероятности, и, наконец, вымысел вопреки этим законам, — то для обозначения собственно вымышленного, невероятного, сказочного, баснословного, сверхъестественного, чудесного, что входит в семантическое поле современного понятия «фантастическое», в греческой литературе употреблялись такие имена и определения, как ἡ ἀπάτη, ἀπατήλιος, ἀπατηλός, ἄπιστος, ὁ ἀρεταλόγος, τὸ θαῦμα,
θαυμάσιος, θαυματουργέω, ὁ μύθος, μυθικός, τὸ μυθολόγημα, ἡ μυθολογία, μυθώδης, μυθολογώ, παράδοξος, ψεύδω, ψευδολογέω, ἡ ψευδολογία, а в римской литературе — admirabile, aretalogus, incredibile, fabula, fabulosus, paradoxa, fallax, falsum, falsus, falsidicus, falsiloquus и пр.
Если иметь в виду все разнообразные виды и аспекты фантастического, то в античной литературе можно назвать очень мало произведений, в которых оно не присутствовало бы в том или ином виде. Мимы Герода и новоаттическая комедия Менандра, насколько мы знаем ее по немногим сохранившимся произведениям и фрагментам, — вот едва ли не единственные здесь примеры. Если исключить бытовую комедию и мим, такие смешанные художественно-научные произведения, как история Фукидида, философская проза Аристотеля или «Характеры» Феофраста, поле фантастического в античной литературе окажется необозримым и едва ли не совпадет с общими ее границами, потому что, если присмотреться, то и у названных выше авторов можно обнаружить отдельные его элементы.
Эта безбрежность темы (подобно пресловутому «реализму без берегов», без берегов в литературе, во всяком случае, в античной, оказывается и фантастическое), а также многообразие его аспектов и определений, иногда совпадающих, иногда пересекающихся, а иногда и противоречащих друг другу, как раз и были основными причинами, затрудняющими общее изучение и описание фантастического в античности. Еще одной причиной было то, что долгое время античную культуру ценили преимущественно со стороны ее рационализма. Так, Вольтер принимал античную мифологию как аллегорию рационального содержания. Только со времени публикации книги Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» наряду с «аполлоническим», рациональным, начинает привлекать внимание и «дионисийское», «иррациональное», и появляются частные исследования сказочного, ареталогического и некоторых других жанров2: скорее периферии античной литературы, чем ее центра. В изучении же архаики и классики господствует противоположная, давно сложившаяся, авторитетная традиция.
Начиная с самой древности по наше время определяющей чертой античной литературы считается противоположное фантастике воспроизведение, подражание действительности — ἡ μίμησις. «Воспроизведение реальности в действии» — «μιμήσεις δραματικάς» — считал главным отличием таланта Гомера, основополагающего поэта для всей античной литературы, великий Аристотель (Arst. Poet. IV, 1448 b 39–40). И видный литературовед XX века Э. Ауэрбах назвал свою книгу о реализме в европейской литературе античным понятием «Мимесис» и показательно начал ее с анализа сцены «Омовения» в гомеровской «Одиссее» (XIX, 335–507) [2]. Между тем читателю Гомера хорошо известно, как много «фантастического», «вымышленного» и в «Одиссее», и в «Илиаде», причем не только на современный сторонний или атеистический взгляд, для которого греческая мифология и религия — пустые выдумки, басни или намеренная ложь. «Зевеса нет, мы сделались умней» — так однажды сформулировал этот постулат новоевропейского рационализма А. С. Пушкин (IV, 118). Попробуем встать на иную точку зрения, возвыситься до исторического взгляда и принять миф и религию, во всяком случае, для носителей определенной религиозно-мифологической традиции, как высшую правду3, явленную умному зрению, сверхчеловеческой мудрости, божественному вдохновению, откровению, чуду или творческой поэтической симпатии — сопереживанию. Так, проникаясь поэзией Гомера, поэт предромантизма Шарль Мильвуа пишет о нем в элегии «Combat d’Homère et d’Hésiode»:
L’Olympe est ton domaine, et ton puissant genie Pénètre librement dans le conseil des Dieux.
И так же сочувственно и проникновенно передает эти стихи в своем переводе К. Батюшков:
Твой гений проницал в Олимп: и вечны боги Отверзли для тебя заоблачны чертоги4.
Вспомним, что и сам Гомер не раз обращается к Музам с мольбой открыть ему и божественную правду, и человеческую, историческую истину. Приведем как наиболее развернутое обращение поэта к Музам в «Илиаде» (B 484–494) сначала в переводе Н. И. Гнедича, а затем в греческом оригинале:
Ныне поведайте Музы, живущие в сенях Олимпа:
Вы, божества, — вездесущи и знаете все в поднебесной;
Мы ничего не знаем, молву мы единую слышим.
Вы мне поведайте, кто и вожди и владыки данаев;
Всех же бойцов рядовых не могу ни назвать, ни исчислить, Если бы десять имел языков я и десять гортаней, Если б имел неслабеющий голос и медные перси;
Разве, небесные Музы, Кронида великого дщери, Вы бы напомнили всех, приходивших под Трою ахеян. Только вождей корабельных и все корабли я исчислю5.
Ἔσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ᾿ ἔχουσαι — ὑμεῖς γὰρ θεαί ἐστε, πάρεστέ τε, ἴστέ τε πάντα, ἡμεῖς δὲ κλέος οἶον ἀκούομεν οὐδέ τι ἴδμεν —, οἵ τινες ἡγεμόνες Δαναῶν καὶ κοίρανοι ἦσαν· πληθὺν δ᾿ οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ᾿ ὀνομήνω, οὐδ᾿ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ᾿ εἶεν, φωνὴ δ᾿ ἄρρηκτος, χάλκεον δέ μοι ἦτορ ἐνείη, εἰ μὴ Ὀλυμπιάδες Μοῦσαι, Διὸς αἰγιόχοιο θυγατέρες, μνησαίαθ᾿ ὅσοι ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον· ἀρχοὺς αὖ νηῶν ἐρέω νῆάς τε προπάσας (B 484–494)6.
Так и героям Гомера боги в их собственном виде являются и по их мольбе, и по собственному благоволению — невидимо для остальных — только достойным. Так является Афина Ахиллу, «только ему лишь явленная, прочим незримая в сонме» — «οἴῳ φαινομένη· τῶν δ᾿ ἄλλων οὔ τις ὁρᾶτο·» (Α 198), Одиссею (Β 172), Диомеду (Ε 123, 793), узнанная только им, а для остальных, даже для бога Ареса, скрытая своего рода шапкой-невидимкой — шлемом Аида: «Афина шлемом Аида покрылась, да будет незрима Арею» — «αὐτὰρ Ἀθήνη δῦν᾿ Ἄϊδος κυνέην, μή μιν ἴδοι ὄβριμος Ἄρης» (Ε 844–845). Так же незримо для окружающих являются к избранным героям и другие боги: Аполлон, Посейдон, Афродита.
Таким образом, по Гомеру, кроме очевидной для всех эмпирической реальности, существует гораздо более широкая божественная, космическая реальность, доступная взору только чудом, божественным соизволением. Божественным пророкам или певцам это соизволение может быть дано раз и навсегда. Так было, как рассказывается в «Одиссее» (θ 63–64), с божественным певцом Демодоком:
τὸν πέρι Μοῦσ᾿ ἐφίλησε, δίδον δ᾿ ἀγαθόν τε κακόν τε· «ὀφθαλμῶν μὲν ἄμερσε, δίδον δ᾿ ἡδεῖαν ἀοιδήν».
Муза его при рождении злом и добром одарила, Очи затмила его, даровала за то сладкопенье7.
«Сладкопенье» — в греческом тексте «сладостная песнь» — «ἡδεῖαν ἀοιδήν» (θ 64) или «божественная песня» «θέσπιν ἀοιδήν» (θ 498) — это вместе с тем и правдивая песня, истинный рассказ. Феакийский певец поет обо всем, как будто видел все сам или узнал от присутствующих очевидцев — «λίην γὰρ κατὰ κόσμον᾿ Ἀχαιῶν οἶτον ἀείδεις, ὅσσ᾿ ἔρξαν τ᾿ ἐπαθόν τε καὶ ὅσσα ἐμόγησαν Ἀχαιοί, ὥς τέ που ἢ αὐτὸς παρεὼν ἢ ἄλλον ἀκουσας» (θ 491). И это касается и того, что происходило под Троей в ахейском лагере и самом Илионе, и того, что произошло на Олимпе с Аресом, Афродитой и Гефестом. В Демодоке, как известно, видели автопортрет самого Гомера. По античным представлениям Гомер был «всевидящий слепец»8, для которого не было границы между очевидным и невидимым для глаза, но открытым умному зрению.
Но даже если вместе с поэтом принять эту божественную правду наряду с человеческой исторической действительностью, то и за их пределами в поэмах Гомера открывается место для фантастического, вымышленного согласно возможности и вероятности, а часто и вопреки им. Вот Одиссей повествует о своих сказочных приключениях в стране лестригонов и ло-тофагов, на острове киклопа Полифема и волшебницы Кирки, о сиренах, Скилле и Харибде, а царь Алкиной хвалит его: «Ты не похож на хвастуна и обманщика, измышляющих ложь о том, чего никто и не видел» — «Ψεύδεά τ᾿ ἀρτύνοντας, ὅθεν κέ τις οὐδὲ ἴδοιτο» (λ 366) — «У тебя красота слов, и внутри блестящие мысли. Ты рассказал свою повесть со знанием дела», «как певец» — «σοὶ δ᾿ ἔπι μὲν μορφὴ ἐπέων, ἔνι δὲ φρένες ἐσθλαί. μῦθον δ᾿ ὡς ὅτ᾿ ἀοιδὸς ἐπισταμένως κατέλεξας» (λ 367–368).
Из этого видно, что кроме религиозной мифологии, была еще, так сказать, и географическая мифология дальних экзотических стран, которая тоже принималась за правду, и так будет не только в древности, но и в средние века, и даже в новое и новейшее время, пока экзотика натуральная и этнографическая не вытеснила экзотику мифологическую. Любопытно, однако, что вымысел в сфере хорошо знакомой действительности, даже если он соответствует каким-то историческим фактам или поэтической правде «по возможности и по вероятности», оценивался как ложь. Так, Одиссей в образе нищего рассказывал Пенелопе об Одиссее правдоподобные, но вымышленные истории, и Гомер замечает: «так говорил он много лжи, похожей на правду» — «Ἴσκε ψεύδεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν ὁμοῖα» (τ 203). И в конце «Поэтики» Аристотель отмечает, что «Гомер учит и других говорить ложь как следует» — «ὡς δεῖ» (Arst. Poet. XXIV, 1460 a 23), чтобы она принималась за правду. Нужно погрузить ее в правдивый контекст, так что слушатель, услышав правдоподобное, подумает, что и дальнейшее «фантастическое» — правда. А это — «ложное умозаключение» — «παραλογισμός» (Arst. Poet. XXIV, 1460 a 23). «Ведь люди думают, что когда это есть или возникает, существует или возникает и то, и последующее будет, если есть предшествующее, и возникнет, если возникло и предыдущее. А это ложь». — «Οἴονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι, ὅταν τουδὶ ὄντος τοδὶ ᾖ ἢ γινομένου γίνηται, εἰ τὸ ὕστερόν ἐστιν, καὶ τὸ πρότερον εἶναι ἢ γίνεσθαι· τοῦτο δὲ ἐστὶ ψεῦδος» (Arst. Poet. XXIV, 1460 a 24–26). «Ложное умозаключение» легче реализуется при восприятии текста на слух, потому оно уместнее в эпосе, чем при постановке трагедии на сцене. «Должно в трагедии представлять удивительное, но особенно в эпосе возможно немыслимое, благодаря которому как раз и происходит удивительное, из-за того, что не видно действующего лица. Так, события, относящиеся к преследованию Гектора, при представлении на сцене показались бы смешными: одни стоят и не преследуют, а другой подает им знак головой. В эпосе же это не заметно. А удивительное — приятно. Доказательство тому то, что все рассказывают с собственными добавлениями, рассчитывая этим понравиться» — «Δεῖ μὲν οὖν ἐν ταῖς τραγῳδίαις ποιεῖν τὸ θαυμαστόν, μᾶλλον δ᾽ ἐνδέχεται ἐν τῇ ἐποποιίᾳ τὸ ἄλογον, διò συμβαίνει μάλιστα τὸ θαυμαστόν, διὰ τὸ μὴ ὁρᾶν εἰς τὸν πράττοντα. Ἐπεὶ τὰ περὶ τὴν Ἕκτορος δίωξιν ἐπὶ σκηνῆς ὄντα γελοῖα ἂν φανείη, οἱ μὲν ἑστῶτες καὶ οὐ διώκοντες, ὁ δὲ ἀνανεύων· ἐν δὲ τοῖς ἔπεσιν λανθάνει. Τὸ δὲ θαυμαστὸν ἡδύ· σημεῖον δέ· πάντες γὰρ προστιθέντες
ἀπαγγέλλουσιν ὡς χαριζόμενοι» (Arst. Poet. XXIV, 1460 a 14–21). В данном случае при анализе преследования Гектора в X песне «Илиады» (X, 205–207) Аристотель комментирует текст с точки зрения здравого смысла, да еще представляя изображаемое с условной точки зрения постановки его на сцене. Но в духе эпических ценностей «тщиться других превзойти, непрестанно пылать отличиться» — «αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων» (Λ 784), как и исключительной доблести Ахилла, эта сцена вполне закономерна для Гомера и наглядна для Ахилла, запрещающего другим ахейцам преследовать и поражать оружием Гектора с тем, чтобы оставить славу победителя исключительно за собой:
Войскам меж тем помавал головою Пелид быстроногий, Им запрещая бросать против Гектора горькие стрелы, Славы б не отнял пронзивший, а он бы вторым не явился. —
λαοῖσιν δ᾿ ἀνένευε καρήατι δῖος Ἀχιλλεύς, οὐδ᾿ ἔα ἱέμεναι ἐπὶ Ἕκτορι πικρὰ βέλεμνα, μή τις κῦδος ἄροιτο βαλών, ὃ δὲ δεύτερος ἔλθοι (Χ 205—207).
Возможно, в истолковании текста Аристотелем сыграла роль форма ἴεμαι, принимаемая им за средний залог от εἰμί (идти), или, при отсутствии тогда диакритических знаков, слово ιεμαι связывалось с глаголом (ἵεμαι) ἵημι (стремиться, спешить). Между тем как последующая александрийская редакция текста (III–II в. до н. э.) утвердила в рукописной традиции (вплоть до первоизданий Димитрия Халкондила в 1488 и Альда Мануция в 1504) форму ἱέμεναι от глагола ἵημι (пускать, бросать), принятую в переводе Гнедича. При прямом соединении в «Илиаде» и в «Одиссее» δραματικὰς μιμήσεις — драматических подражаний действительности, в которых Аристотель видел как раз уникальный талант поэта, с мифологическими преданиями, в которых чрезвычайно силен фантастический элемент, первый историк и теоретик греческой литературы замечает чрезвычайную осторожность гомеровского эпоса. Так, морской фольклор в «Одиссее» (Кирка, Калипсо, Сцилла, Харибда, лестригоны, киклопы и подобное) рассказывается самим героем, а не автором. В авторском же рассказе о возвращении Одиссея на родину от сказочных феаков Гомер использует необходимый при обращении к реальности от мифологии, но невероятный в этом тексте мотив сна: феаки выносят спящего Одиссея на берег и складывают рядом все его подарки. Художественный мотив сна, скрадывающий гигантское различие между мифологической фантастикой и реальностью, далее оправдывается психологически. Одиссей не узнает своего отечества, которого не видел 20 лет, — деталь, восхитившая позднейших читателей Гомера, Шиллера и Батюшкова. Вот что пишет об этом эпизоде у Гомера Аристотель: «Следует предпочитать невозможное вероятное возможному, но маловероятному <…> ясно, что противные смыслу части “Одиссеи”, например высадка [героя на Итаку], были бы невыносимы, если бы их сочинил плохой поэт; а теперь поэт прочими красотами скрасил бессмыслицу и сделал ее незаметной» — «Προαιρεῖσθαί τε δεῖ ἀδύνατα εἰκότα μᾶλλον ἢ δυνατὰ ἀπίθανα <…> φαίνηται εὐλογωτέρος ἐνδέχεσθαι, καὶ ἄτοπον. Ἐπεὶ καὶ τὰ ἐν Ὀδυσσείᾳ ἄλογα τὰ περὶ τὴν ἔκθεσιν, ὡς οὐκ ἂν ἦν ἀνεκτά, δῆλον ἂν γένοιτο, εἰ αὐτὰ φαῦλος ποιητὴς ποιήσειεν· νῦν δὲ τοῖς ἄλλοις ἀγαθοῖς ὁ ποιητὴς ἀφανίζει ἡδύνων τὸ ἄτοπον» (Arst. Poet. XXIV, 1460 a 33–34, 41–43, 1460 b 1–2).
Еще раз возвращается Аристотель к защите гомеровского эпоса от порицаний в 25 главе трактата. Начинает он, как всегда, с самых общих рассуждений: «Так как поэт есть подражатель, подобно живописцу или какому-нибудь другому художнику, то необходимо ему подражать непременно чему-нибудь одному из трех: или [он должен изображать вещи так], как они были или есть, или как о них говорят и думают, или какими они должны быть. Это выражается или <в обыденной речи>, или в глоссах и метафорах; и много есть изменений языка, на что мы даем право поэтам» — «Ἐπεὶ γάρ ἐστι μιμητὴς ὁ ποιητής, ὡσπερανεὶ ζωγράφος ἤ τις ἄλλος εἰκονοποιός, ἀνάγκη μιμεῖσθαι τριῶν ὄντων τὸν ἀριθμὸν ἕν τι ἀεί· ἢ γὰρ οἷα ἦν ἢ ἔστιν, ἢ οἷά φασιν καὶ δοκεῖ, ἢ οἷα εἶναι δεῖ. Ταῦτα δ᾿ ἐξαγγέλλεται λέξει, ἐν ᾗ καὶ γλῶττα καὶ ματαφορὰ καὶ πολλὰ πάθη τῆς λέξεως ἐστί· δίδομεν γὰρ ταῦτα τοῖς ποιηταῖς» (Arst. Poet. XXV 1460 b 9–15).
Указывая на необходимость различать ошибки поэтики живого подражания и какого-либо другого специального искусства (например, анатомии), он прощает вторые, если таким образом та или иная часть поэтического произведения станет более выразительной, например, преследование Гектора (Arst. Poet. XXV, 1460 b 26–27), или если причиной выбора поэтом ошибки в другом искусстве станет его желание быть верным своему искусству, «чтобы достичь в нем большего блага или избежать большего зла» — «οἷον εἰ μείζονος ἀγαθοῦ, ἵνα γένηται, ἢ μείζονος κακοῦ, ἵνα ἀπογένηται» (Arst. Poet. XXV, 1461 a 10–11). И к тому же, пишет далее Аристотель, «если поэта упрекают в том, что он неверен действительности, то, может быть, следует отвечать на это так, как сказал и Софокл, что сам он изображает людей, какими они должны быть, а Еврипид такими, каковы они есть; если же [его упрекают в том], что он не следует ни тому, ни другому, то [он может отвечать на это], что так говорят, например, о том, что касается богов; именно, о них не говорят ни того, что они выше действительности, ни того, что они равны ей, но, может быть, говорят согласно с учением Ксенофана, — однако же так говорят!» — «Πρὸς δὲ τούτοις, ἐὰν ἐπιτιμᾶται ὅτι οὐκ ἀληθῆ, ἀλλ᾿ ἴσως δεῖ, οἷον καὶ Σοφοκλῆς ἔφη αὐτὸς μὲν οἵους δεῖ ποιεῖν, Εὐριπίδην δὲ οἷοι εἰσίν, ταύτῃ λυτέον. Εἰ δὲ μηδετέρως, ὅτι οὕτω φασίν, οἷον τὰ περὶ θεῶν. Ἴσως γὰρ οὔτε βέλτιον [οὔτε] λέγειν οὔτ᾿ ἀληθῆ, ἀλλ᾿ ἔτυχεν ὥσπερ Ξενοφάνει· ἀλλ᾿ οὖν φασί» (Arst. Poet. XXV, 1460 b 38–42, 1461 a 1–2).
И, подводя итоги своему рассуждению о невозможном в поэзии, Аристотель заключает: «Вообще при суждении о невозможном в поэзии следует обращать внимание на идеализацию или ходячее представление о вещах; именно в поэтическом произведении предпочтительнее вероятное невозможное, чем невероятное, хотя и возможное… <Хотя и невозможно>, чтобы существовали люди, подобные тем, каких рисовал Зевксид, но надо предпочесть лучше это невозможное, так как следует превосходить образец. А нелогичное [следует оправдывать] тем, чтό говорят люди, между прочим и потому, что иногда оно бывает не лишенным смысла: ведь вероятно, чтобы [кое-что] происходило и вопреки вероятности» — «Ὅλως δὲ τὸ ἀδύνατον μὲν πρὸς τὴν ποίησιν ἢ πρὸς τὸ βέλτιον ἢ πρὸς τὴν δόξαν δεῖ ἀνάγειν. Πρός τε γὰρ τὴν ποίησιν αἱρετώτερον πιθανὸν ἀδύνατον ἢ ἀπίθανον καὶ δυνατόν, <καὶ ἴσως ἀδύνατον> τοιούτους εἶναι οἷον Ζεῦξις ἔγραφεν, ἀλλὰ βέλτιον· τὸ γὰρ παράδειγμα δεῖ ὑπερέχειν.
Πρὸς δ᾿ ἅ φασιν τἄλογα, οὕτω τε καὶ ὅτι ποτὲ οὐκ ἄλογόν ἐστιν· εἰκὸς γὰρ καὶ παρὰ τὸ εἰκὸς γίνεσθαι» (Arst. Poet. XXV, 1461 b 10–16).
В конце, как мы видим, Аристотель допустил фантастическое «невозможное» и «нелогичное» — «ἀδύνατον» и «ἄλογον» в эпосе как следствие художественных задач, идеализации, отражения устной традиции («как говорят») и, наконец, реальности («ведь вероятно, что что-то происходит и вопреки вероятности»). Но, будучи философом, начинал он свой теоретический трактат в эпоху рационализма, в эпосе Гомера видел преимущественно подражание реальности (ничего не говоря о мифологическом содержании этого эпоса) и сравнивал его с другим жанром греческой литературы — тоже направленным на воспроизведение действительности — с историографией. В 9 главе своего трактата о поэзии Аристотель формулирует свое понимание задач поэта: «Задача поэта говорить не о действительно случившемся, но о том, что могло бы случиться, следовательно, о возможном по вероятности или по необходимости. Именно, историк и поэт отличаются [друг от друга] не тем, что один пользуется размерами, а другой нет: можно было бы переложить в стихи сочинения Геродота, и тем не менее они были бы историей, как с метром, так и без метра; но они различаются тем, что первый говорит о действительно случившемся, а второй — о том, что могло бы случиться. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории: поэзия говорит более об общем, история — о единичном. Общее состоит в том, что человеку такого-то характера следует говорить или делать по вероятности или по необходимости, — к чему и стремится поэзия, придавая [героям] имена; а единичное, например, что сделал Алкивиад или что с ним случилось <…> Итак, отсюда ясно, что поэту следует быть больше творцом фабул, чем метров, поскольку он поэт по своему подражательному воспроизведению, а подражает он действиям. Даже если ему придется изображать действительно случившееся, он тем не менее [остается] поэтом, ибо ничто не мешает тому, чтобы из действительно случившихся событий некоторые были таковы, каковыми они могли бы случиться по вероятности или возможности: в этом отношении он является их творцом» — «…οὐ τὸ τὰ γενόμενα λέγειν, τοῦτο ποιητοῦ ἔργον ἐστίν, ἀλλ᾿ οἷα ἂν γένοιτο, καὶ τὰ δυνατὰ κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ ἀναγκαῖον.
Ὁ γὰρ ἱστορικὸς καὶ ὁ ποιητὴς οὐ τῷ ἢ ἔμμετρα λέγειν ἢ ἄμετρα διαφέρουσιν (εἴη γὰρ ἂν τὰ Ἡροδότου εἰς μέτρα τεθῆναι, καὶ οὐδὲν ἧττον ἂν εἴη ἱστορία τις μετὰ μέτρου ἢ ἄνευ μέτρων), ἀλλὰ τούτῳ διαφέρει, τῷ τὸν μὲν τὰ γενόμενα λέγειν, τὸν δὲ οἷα ἂν γένοιτο. Διὸ καὶ φιλοσοφώτερον καὶ σπουδαιότερον ποίησις ἱστορίας ἐστίν· ἡ μὲν γὰρ ποίησις μᾶλλον τὰ καθόλου, ἡ δ᾽ ἱστορία τὰ καθ᾽ ἕκαστον λέγει. Ἤστιν δὲ καθόλου μέν, τῷ ποίῳ τὰ ποῖα ἄττα συμβαίνει λέγειν ἢ πράττειν κατὰ τὸ εἰκὸς ἢ τὸ ἀναγκαῖον, οὗ στοχάζεται ἡ ποίησις ὀνόματα ἐπιτιθεμένη· τὸ δὲ καθ᾽ ἕκαστον, τί Ἀλκιβιάδης ἔπραξεν ἢ τί ἔπαθεν <…>.
Δῆλον οὖν ἐκ τούτων ὅτι τὸν ποιητὴν μᾶλλον τῶν μύθων εἶναι δεῖ ποιητὴν ἢ τῶν μέτρων, ὅσῳ ποιητὴς κατὰ τὴν μίμησίν ἐστι, μιμεῖται δὲ τὰς πράξεις. Κἂν ἄρα συμβῇ γενόμενα ποιεῖν, οὐθὲν ἧττον ποιητής ἐστι· τῶν γὰρ γενομένων ἔνια οὐδὲν κωλύει τοιαῦτα εἶναι οἷα ἂν εἰκὸς γενέσθαι [καὶ δυνατὰ γενέσθαι], καθ᾿ ὃ ἐκεῖνος αὐτῶν ποιητής ἐστιν» (Arst. Poet. IX, 1451 a 41–44, 1451 b 1–11, 1451 b 29–35).
Таким образом, Аристотель в «Поэтике» (IX, 1451 а 41 — b 35) пишет о различии «исторической» правды единичного факта и обобщающей поэтической (т. е. творческой, воображаемой, «фантастической») правды событий «возможных согласно закону вероятности или необходимости».
Так определяется Аристотелем закон «драматических изображений» — «μιμήσεις δραματικάς» (Arst. Poet. IV, 1448 b 39–40) в поэзии, создания в литературе, говоря современным языком, обобщающей «модели» жизни и человеческих отношений и ее отличия от исторической правды отдельного факта, а затем устанавливаются правила «незаметного», скрытого от читателя поглощения ею «лжи» и «фантастики». И законы в литературе обобщающего правдоподобного изображения прагматической действительности и ее правило включения вероятного фантастического формулируются на века. Еще 15 июня 1880 года Ф. М. Достоевский пишет начинающей писательнице Ю. Ф. Аба-за, что «фантастическое в искусстве имеет предел и правила. Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что Вы должны поверить ему. Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал “Пиковую даму” — верх искусства фантастического. И вы верите, что Германн действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем, в конце повести, то есть прочтя ее, Вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из природы Германна, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром злых и враждебных человечеству духов»9. Но если в литературе XIX века фантастическое появляется в силу присутствия в ней романтических интенций (Пушкин, Гоголь, Гофман, По), то в обозреваемой Аристотелем античной словесности фантастическое присутствует в силу непременной ее мифологичности, восходящей к устному преданию, включающей в каждый образ и сюжет «и реальное, и фантастическое содержание»10. Аристотель ничего не говорит о мифологичности греческой литературы, потому что иной словесности, за исключением чисто научной, философской, исторической, медицинской и др., он и не знал, между тем, как другие греческие мыслители и художники, разделявшие уважение Аристотеля к Гомеру («Гомер воспитал всю Грецию»), часто упрекали великого поэта в том, что он соскальзывал на фантастику и ложь. Уже Гесиод, соперничавший с Гомером в искусстве рапсода, был его первым критиком и возлагал ответственность за ложное в его поэмах на самих Муз. Он рассказывал в поэме «Теогония» (27–28), что однажды встретил Муз на горе Геликон и они сказали ему:
Много умеем мы лжи рассказать за чистейшую правду, Если, однако, хотим, то и правду рассказывать можем11.
Ἴδμεν ψεύδεα πολλὰ λέγων ἐτύμοισιν ὁμοῖα Ἴδμεν δ᾿ εὖτ᾿ ἐθέλωμεν ἀληθέα γηρύσασθαι.
Конечно, Гесиод выбирает для себя правду, которую и рассказывает далее в своей поэме о происхождении богов — «Теогонии». Его ἀληθέα — это высшая божественная правда религиозно-мифологической традиции. Что же касается ψεύδεα Муз — лжи, выдумок, вымыслов, фантастики, то здесь может подразумеваться и иллюзионизм Гомера — и в частности та воображаемая им реальность повседневной жизни небожителей, которую он описывает по человеческому образцу и настолько точно, что античные схолиасты не раз указывают на полях комических олимпийских сцен: «…и это жизненно, и это взято из жизни». Как ложь эти сцены могли оцениваться Геси- одом потому, что они были неизвестны мифологической традиции и были творческим изобретением, фантазией самого Гомера. А вот с точки зрения Ксенофана Колофонского, философа и поэта-моралиста VI в. до н. э., и трансформация Гомером народно-поэтического предания в соответствии с людскими обычаями, и принятые Гесиодом очеловеченные боги религиозно-мифологической традиции — все ложь, «брань и поношение» — «ὀνείδεα καὶ ψόγος»12. Так определяются поэтические фантазии с позиций моралистической критики и рациональной философии.
Несмотря на критику философского рационализма, античная словесность не отвергала ни мифологию, ни фантастику и в дальнейшем — на протяжении всего своего существования. С мифологией дело, по-видимому, обстоит так же, как, по народному присловью, с природой: гони ее в дверь, она влезет в окно. Свидетельства мифологического мышления и фантастических вымыслов сохраняются и в научно-художественных жанрах античной литературы: в историографии, как, к примеру, у Геродота и многочисленных его последователей, в философии — вспомним здесь мифы и утопии Платона, в естественно-научных сочинениях, в частности в медицине — здесь примерами могут быть многочисленные рассказы о чудесных исцелениях в храме Асклепия в Эпидавре. Что говорить о художественной литературе, о мифологической трагедии, о древнеаттической комедии, которая реальные политические и культурные проблемы разрешает с помощью богов и древних героев, мифологии, утопии и фантастики (здесь полеты на небо, нисхождения в Аид, построение в воздухе государства — «Тучекукуйщины», власть женщин, хоры птиц и лягушек и проч.), наконец, об эпосе, который даже в эллинистическом ученом своем варианте мирно сочетает сведения новейшей науки, географии и истории и фантастическую мифологию. История античной словесности на всем своем протяжении дает нам многочисленные примеры сочетания и взаимопроникновения мимесиса реальности и мифологии, рационального и иррационального, действительного и фантастического. Вот почему исследователь греческой мифологии И. Какридис в своем обзоре ее источников в античной лите- ратуре перечисляет все жанры и едва ли не всех авторов, греков и римлян, вплоть до христианских апологетов, хронографов и схоластов13.
Можно видеть в этом, как это принято, показатель особой традиционности античной литературы, в частности постоянного стремления поэтов не только поучать, но и развлекать слушателей, чему как раз и служила мифология. Именно этот аргумент приводит географ 1 в. до н. э. — 1 в. н. э. Страбон, защищая славу Гомера как «первого географа»: «Мы можем простить поэту, если он внес в свой исторический и поучительный рассказ некоторые сказочные черты. Это не заслуживает порицания; ведь Эратосфен не прав в своем утверждении, что всякий поэт стремится доставлять удовольствие, а не поучать. В самом деле, наиболее мудрые из тех, кто писал о поэзии, наоборот говорят, что она является чем-то вроде начальной философии»14. Поэтому, думается, есть в этом и свидетельство постоянного сосуществования мифологического мышления с рациональным. С ослаблением государственной религии не наступает пора тотального рационализма, но рядом с угасающим культом богов укрепляется культ эллинистического монарха или гения римского императора, усиливается влияние чужеземных религий и народных суеверий. Напрасно рационалист и сатирик Лукиан осмеивал все суеверия в своих остроумных пародиях «Любитель лжи, или Невер», «Александр, или Лжепророк», «О кончине Перегрина», «Как следует писать историю», «Правдивая история», «Разговоры богов», «Разговоры в царстве мертвых» и др. Пересмешник и не верующий ни во что, он остался в истории античной мысли едва ли не в полном одиночестве. Многие воспринимали разрыв с традиционной религией трагически. Их голос доносит до нас эпиграмма эллинистического писателя Каллимаха:
На могиле Хариданта
— Здесь погребен Харидант? — Если сына киренца Аримны Ищешь, то здесь. — Харидант, что там, скажи, под землей?
— Очень темно тут. — А есть ли пути, выводящие к небу?
— Нет, это ложь. — А Плутон? — Сказка. — О горе же нам…15
Приведем последние два стиха с оценочной лексикой в греческом оригинале:
Ὦ Χαρίδα, τί τὰ νέρθε; — «Πολὺς σκότος». — Αἱ δ’ ἄνοδοι τί; — «Ψεῦδος». — Ὁ δὲ Πλούτων; — «Μῦθος». — Ἀπωλόμεθα16.
(AP VII, 524.)
В этом греческом тексте народная вера охарактеризована словами «ψεῦδος» и «μῦθος», которые мы уже встречали в качестве указания на фантастичность народного предания с позиций философского рационализма. Однако полное отрицание традиционной мифологии все же остается уделом немногих. Для массового сознания характерна скорее верность отеческому обычаю и некая синкретическая вера во все на свете, а для массовой литературы интерес ко всякого рода чудесным явлениям. Рассказы о чудесах наводняют географические описания и исторические повествования, проникают в жанр античной биографии, в христианские жития святых, в риторике усиливается интерес к странным случаям и парадоксальным темам, в романе — к удивительным поступкам и невероятным приключениям. Об античном романе как явлении массового сознания и массовой литературы имеется интересное исследование В. Н. Илюшечкина [6]. Ареталогическому жанру в античной литературе посвящен первый раздел в диссертации Е. В. Желтовой [5]. Здесь в дальнейшем изложении, во второй части этой статьи мы попытаемся показать, как проявлялось массовое мифологическое сознание не в сравнительно узких рамках одного жанра, а в более широких пределах одного литературного периода, и остановимся подробно на парадоксографических ее мотивах.
II . Парадоксографические мотивы в римской литературе I века н. э.
Литература I века н. э., проникнутая влиянием стоической философии17 и риторики18, обнаруживает всесторонний интерес к парадоксографии. Этот интерес отражается и в непосредственных высказываниях, и в манере включать парадоксографические мотивы. «Первая забота для человека — познать землю, и что удивительного в ней несет природа», — пишет Луцилий Младший19. Ему вторит автор трактата «О возвышенном»: «Необходимое и даже полезное легко доступно людям, однако удивительно всегда необычное»20.
Продолжают появляться парадоксографические сборники: «Невероятные истории» Исигона Никейского, «Отдельные чудесные сведения о реках, источниках и озерах» Сотиона, «Удивительная история» и «Новая история» Птолемея, сына Гефестиона; в начале второго века в русле этой традиции Флегонт пишет сочинения «О долголетних людях и удивительных вещах».
Правление Юлиев-Клавдиев, эпоха морских экспедиций и географических открытий [8, 142], богата географическими сочинениями. «Описание земли» Помпония Мелы и первые книги «Естественной истории» Плиния показывают, какое обширное место занимают в них парадоксографические экскурсы. Вероятно, такой же характер имели не дошедшие до нас сочинения Сенеки «О положении Индии», где он, по словам Плиния 21 , упоминал 60 рек и 122 народа, и «О положении и святынях египтян», произведения Туррания, Требия Нигера и Балбилла, у которых география смешивается с рассказами о чудесах [8, 143–148]. Сенека в сочинении «Естественно-научные вопросы» пишет о таких удивительных явлениях природы, как кометы 22 , благодатные разливы Нила 23 ; сообщает, что в Аркадии существует источник по имени Стикс с водой, не вызывающей подозрений ни по цвету, ни по запаху, но тем не менее причиняющий смерть 24 , источник в Фессалии в Темпейской долине, губительная сила которого уничтожает траву и кустарник и разъедает твердые материалы 25 , некоторые реки меняют цвет шерсти пьющих из них овец: черные становятся белыми и наоборот 26 . Упоминает Сенека и о плавающих островах, в различное время поднимающихся из моря 27 , и т. д.
Парадоксографические мотивы появляются и в художественной литературе I в. н. э.: в эпосе, где они имеют давнюю традицию, в трагедии, басне, романе.
Лукан в «Фарсалии» сообщает чисто парадоксографические сведения о различных видах змей в Ливийской пустыне28, об истоках и течении Нила29, часто в поэме присутствует удивительное как результат божественного вмешательства. Примерами такого рода являются знамение в Риме, предвещающее гражданскую войну30, описание священного леса под Масси-нией31, знамение перед Фарсальской битвой32.
В трагедии Сенека пророчествует о будущем открытии громадной земли в океане за Фулой33, упоминает экзотические народности34, описывает удивительный климат Скифии35, туземных животных36 и т. д.
Последователи нового стиля, Сенека и Лукан, выбирают редкие варианты мифов, тяготеют к изображению гипербо-лизованных образов и невероятных ситуаций. Экзотические подробности флоры, фауны, обычаев туземных народов завершают здесь создание колорита удивительного.
Федр в своих баснях передает рассказы о египетских со-баках37, об удивительном способе, которым медведь добывает себе пищу38, о понтийских бобрах39, о рождении насекомых из трупов животных40, о рождении ягнят с человеческими головами41.
Удивительное, странное, небывалое в содержании литературы I в. н. э. и, главным образом, эксцентричность «нового стиля» Сенека объясняет в письме к Луцилию нездоровым вкусом народа и развращенностью его нравов: «Речь у людей такова, какова жизнь. Как действия отдельного человека соответствуют его речи, так и стиль речи иногда отражает общественные нравы»42. Если обратиться к быту Римской империи, то можно заметить тот же интерес к удивительному. В Риме Цезари показывают особенно безобразных и страшных уродов, редких зверей и т. п.43, то же происходит и в других городах44. В цирке представляют зверей, которых укротители приучали к тому, что было противно их природе45.
Карлики, известные уже в Афинах V века, пользуются во времена империи прямо-таки патологической любовью. Август показал в амфитеатре карлика Луция ростом в 59 см и весом 5,574 кг46. Среди шутов Тиберия упоминается некий карлик, задавший императору дерзкий вопрос47. Внучку Августа Юлию увеселял карлик по имени Конопас, мать которого Андромеда принадлежала Юлии Августе48. Нерону карлик Астурк служит в качестве шута49. Карлики не только развлекали знатных людей дома, но и выступали на арене как гладиаторы50. Любовь римлян к подобного рода монстрам была настолько велика, что они выращивают карликов искусственно, с малых лет заключая их в ящик, чтобы воспрепятствовать естественному росту51.
Карлики, которых древние обычно называют пигмеями, независимо от их происхождения52, представляют постоянный образ античной изобразительной карикатуры53, пародируя мифологический сюжет54, либо выступая средством сатирического изображения определенного сословия [9, 13], [10, 59]55, или создавая комические ситуации, независимо от цели пародии и сатиры56.
Популярный образ греческой вазовой живописи и малой пластики — пигмеи57 — изображается в Риме на стенах таверн и жилых домов, вызывая удивление и смех. Фрески в домах Помпеи и Геркуланума показывают нам пигмеев в ателье у художника, триумф пигмеев, пигмеев, носящих воду, карликов, продающих хлеб, атлетов, кулачных бойцов, дискоболов [9; 30–37, 44].
Свою тягу к необычному, странному, фантастическому Рим эпохи империи выразил и в создании гротесков, причудливых сочетаний элементов реальных растений и частей тела животных и людей. Моду эту осуждает уже Витрувий58, но она не умирает, и «Золотой дом» Нерона изобилует ими [15]59. На стенах «Золотого дома»60 «поднимаются одни за другими хрупкие стебельки с волютами, которые несут на себе, вопреки здравому смыслу, сидячие фигуры, или такие же стебельки несут на себе еще другие фигурки, одни с человеческими, а другие с звериными головами»61.
Эпиграмма I в. н. э. как стихотворение на случай, тесно связанная с современностью, как римская, так и греческая, изобилует парадоксографическими мотивами. Четверть эпиграмм Лукиллия, большинство скоптических эпиграмм Ни-карха, «Книга Зрелищ» Марциала почти целиком и отдельные эпиграммы в остальных книгах представляют убедительное свидетельство этого.
В заключение можно сказать, что обзор парадоксографических и ареталогических мотивов в римской литературе I века н. э. приоткрывает лишь одну небольшую часть фантастического в античной словесности, показывая вместе с тем, как велико, необозримо все его поле и насколько важно систематическое его исследование. Однако и на основе этого краткого обзора и предварительных замечаний можно, думается, установить характерные черты фантастического в античной словесности. Во-первых, это присутствие фантастического в переплетении с мимесисом действительности на протяжении всего развития античной словесности как свидетельство постоянного сосуществования мифологического и рационального сознания. Во-вторых, это присутствие фантастического, парадоксографического, ареталогического в самом рациональном — в философии, историографии, науке. По-видимому, все это свойственно не только античности, но и новому времени. О последнем говорит постижение подобных явлений гением Пушкина, определившего научные открытия как чудо и парадокс:
О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух, И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель (III, 153).
Пушкин открыл и мифологические основы массового сознания, питающегося баснями — т. е. мифами. И сказал об этом в предостережение читателю в своей драме «Борис Годунов» (V, 228):
…бессмысленная чернь Изменчива, мятежна, суеверна, Легко пустой надежде предана, Мгновенному внушению послушна, Для истины глуха и равнодушна А баснями питается она (курсив мой. — Т. М. ).