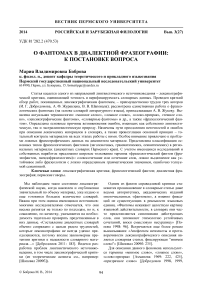О фантомах в диалектной фразеографии: к постановке вопроса
Автор: Боброва Мария Владимировна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 3 (27), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья касается одного из направлений лингвистического источниковедения - лексикографической критики, оценивающей точность и верифицируемость словарных данных. Проведен краткий обзор работ, посвященных лексикографическим фантомам, - преимущественно трудов трех авторов (И. Г. Добродомова, А. Ф. Журавлева, В. В. Шаповала); рассмотрена единственная работа о фразеологических фантомах (на основе словарей литературного языка), принадлежащая А. В. Жукову. Выявлена актуальная терминология: «мнимое слово», «ложное слово», «слово-призрак», «темное слово», «лексикографические фантомы», «словарные фантомы» и др., а также «фразеологический фантом». Определены основные причины возникновения ошибок, имеющих как собственно лингвистическую, так и экстралингвистическую природу. Намечены пути преодоления неточностей и ошибок при описании лексических материалов в словарях, а также провозглашен основной принцип - тотальный контроль материалов на всех этапах работы с ними. Особое внимание привлечено к проблеме ложных фразеографических данных на диалектном материале. Представлена классификация основных типов фразеологических фантомов (заголовочных, грамматических, семантических) в региональных материалах (диалектных словарях Пермского края). С учетом имеющихся исследований и собственных наработок предложено широкое толкование термина «фразеологический фантом (фразеофантом, псевдофразеологизм)»: словосочетание или сочетание слов, ложно выделяемое как устойчивое либо фразеологизм с ложно определенным грамматическим значением, ошибочно толкуемой семантикой.
Лексикографическая критика, фразеологический фантом, диалектная фразеография, пермские говоры
Короткий адрес: https://sciup.org/14729330
IDR: 14729330 | УДК: 81’282.2
Текст научной статьи О фантомах в диалектной фразеографии: к постановке вопроса
Мы наблюдаем такое состояние лексикографической науки, когда накоплен и опубликован значительный по объему материал, уже издано и еще готовится большое количество словарей. Важна при этом оценка имеющихся источников: многими исследователями отмечается, что они весьма разнятся не только по подходам, но и, к сожалению, по качеству, указывается на необходимость тщательно проверять представленные в них данные. «Составление диалектных словарей обычно сопряжено с целым рядом трудностей, которые лексикографами не всегда удачно преодолеваются, поэтому вполне закономерны претензии критики к надежности словарного материала…» [Добродомов 2011: 183]. Ведется разработка проблем лингвистического источниковедения, в том числе лексикографической критики (ее теоретические аспекты см., например: [Шаповал 2009б]).
Одним из фактов справедливой критики становится проникновение в словарные статьи даже весьма авторитетных, академических изданий многочисленных «фантомов», а именно фиксаций не существующих в реальности языковых единиц. «Фантомы искажают целостную картину языковой действительности, в словарях они часто представляются синонимами действующих слов, они затемняют этимологию устойчивых сочетаний, внося смысловую несуразицу» [Попова 1998: 96]. Встречаются еще более резкие высказывания: «Апофеозом неполноты и противоречивости лексикографического описания является словарная статья, фиксирующая “мнимое слово”» [Шаповал 2009б: 235].
Для описания данного феномена используются термины «мнимое слово», «ложное слово», «слово-призрак» [Ахманова 1969: 222, 425], «призрачное слово» [Добродомов 1998, 1999,
2005, 2007], «темное слово» [Чернышев 1970], «лексикографический фантом» [Журавлев 1995, 1998, 2000, 2001а, 2001б, 2002а, 2002б], «словарный фантом» [Попова 1998; Шаповал 2001, 2002], «фантомы» [Шаповал 2009а], «фантомный диалектизм» [Шаповал 2010б], а также «несуществующее», «фантастическое» слово (И. Г. Доб-родомов), «слово-фантом» (А. Н. Шаламова), «мнимое слово» и «лексикографическая фикция» (А. М. Молдован), «псевдонеологизм», «псевдо-гапакс» (Л. Ю. Астахина) [см.: Крючкова 2009]. Существует также понятие «лексические фантомы», обозначающее лексемы с отсутствующим денотатом (предложен Б. Ю. Норманом), однако оно последовательно применяется его автором и другими лингвистами только в области политического дискурса (см., например: [Норман 1994]). Так, представитель одного из подходов (в узком понимании) считает, что: «Темные, часто бессмысленные слова являются следствием ошибочного чтения источников, неточной записи слышанного или искаженной еще до чтения передачи слов на письме и печати» [Чернышев 1970: 317].
Проблема «нереальных» слов, толкуемых в словарях, не нова и обратила на себя внимание не только отечественных лексикографов. Обнаруживаем, в частности, такое мнение: «Přesvědčil jsem se, že sbírky nářečnich slov obsahují někdy i slova, kterým nelze věnovat důvěru» («Я убедился в том, что в собрания диалектных слов включают порой и слова, которым нельзя доверять») [Ma-chek 1968: 7]. О. Н. Трубачев отмечал как перспективу развития лексикографии следующее: «Весьма полезно было бы получить в будущем для каждого языка объединенный в одном издании свод, который бы включал критич ески о бр аботанные [выделено нами. – М. Б. ] материалы по областной лексике, т. е. в первую очередь материал всех соответствующих публикаций, пополненных при возможности дополнительными изысканиями (ср., например, план, разработанный Ф. П. Филиным)» [Трубачев 1961: 203].
«Мнимые слова» обнаруживаются исследователями в разнообразных источниках: в словарях литературного языка (в том числе в семнадцатитомном издании «Словаря современного русского литературного языка»), словарях социальных и территориальных диалектов.
Высказываемая критика актуальна: «Для полноты и ясности словаря русского языка, как и всякого другого, необходимо прилагать значительные усилия к сокращению области слов и выражений, темных в отношении истории, этимологии и значения. Темные словоупотребления неприятны, как пятна на пестрой, яркой и выра- зительной лексической ткани языка. Они портят тексты, затрудняют мышление, наталкивают говорящих и читающих на ложные идеи и заключения» [Чернышев 1970: 303].
И критика, безусловно, приносит свои результаты. Так, серия работ А. Ф. Журавлева по материалам «Словаря русских народных говоров» (выпуски 1–7 опубликованы, 8 и 9 находятся в печати) вызвала конструктивный отклик С. А. Мызникова [см.: Мызников 2006]. Но тем сложнее работа по выявлению «слов-призраков», что это, по сути, «уникальные случаи, которые не всегда или не вполне укладываются в схемы проверки данных, разработанные в традиционной текстологии и источниковедении» [Шаповал 2002].
Критерии поиска и причины обнаружения подобных фактов разнообразны. В качестве причин ошибок называют: трудности интерпретации однократно зафиксированного слова, изолированного с точки зрения словообразования; бедность иллюстративного материала; накопление неточностей при копировании рабочих записей даже ординарных слов в процессе лексикографической обработки или же по мере аккумулирования материала разных регионов в рукописи сводного словаря; визуальное смешение букв или их элементов при копировании записи диалектного слова [см: Шаповал 2009в: 152]; неясность морфемного членения; отсутствие производных слов; наличие синонима с немотивированным отличием в записи [см.: Шаповал 2010а: 69]. «В ряде случаев можно предполагать, что автор словаря не располагал адекватным материалом для описания слова или понял этот материал неадекватно» [Шаповал 2009б: 235]. Положение усугубляется тем, что многие из перечисленных причин допускаемых ошибок выступают в комплексе.
Особенно остро ставится вопрос о «мнимости» («призрачности», «фантомности») заголовочных слов, представленных в словарях социальных и территориальных диалектов: «Специфика словаря как текста приводит к тому, что слово, стоящее “с правой стороны”, наиболее подвержено воздействию ошибок: во-первых, это зачастую малоизвестное слово, потому оно и является толкуемым, во-вторых, слово, поставленное в алфавитный ряд, скорее всего не встретится в словаре второй раз, то есть ошибка, раз возникнув, может быть исправлена только на основе внешних источников. Сам словарь не только не обладает ресурсами для исправления слова, но уже самим фактом помещения слова справа подтверждает выбранное написание слова и символически узаконивает его существование. Если мы говорим о периферии словарного состава русского языка, то есть жаргонной и сниженной лексике, то указанные опасности заметно возрастают. Словари жаргона вообще ориентированы на отбор редких слов, а среди них и слов необычного вида. Кроме того, очевидно, что трудно представить себе эксперта, который одинаково глубоко вник в специфический и изменчивый неформальный словарь различных групп артистов, библиофилов, бизнесменов, воров, картежников, коллекционеров, компьютерщиков, кришнаитов, летчиков, милиционеров, моряков, наркоманов, политзаключенных, риэлторов, спортсменов, хиппи, школьников и т. д. Поэтому составителю словаря, как правило, требуется приложить немало целенаправленных усилий, чтобы преодолеть, так сказать, обаяние жаргонной экзотики и “презумпцию реальности” уникального слова, заявленного в источнике, даже если его описание вызывает законные сомнения» [Шаповал 2002].
Многочисленность примеров недостоверности лексических материалов подводит к мысли о том, что, «прежде чем ставить вопрос о границах распространения слова в определенном территориальном или социальном варианте русского языка, в том или ином его стилистическом пласте, необходимо решать непраздный вопрос о реальности слова, представленного только в словарных источниках» [Шаповал 2001: 26].
Способы преодоления проблемы словарных фантомов не менее разнообразны, чем причины их появления, хотя «процедура проверки, особенно исправления такой словарной записи, представляется весьма непростой. При этом статус “ошибки” в каждом отдельном случае нуждается в тщательном уточнении: это может быть и реальное диалектное слово, не фиксировавшееся ранее по причине его малоупотребительности, и результат ослышки при фиксации или описки при копировании рабочей записи; иногда это оказывается неверной трансформацией общеизвестного слова, впервые встреченного неопытным собирателем диалектного материала именно в местной речи. В любом случае представляется важным следующий принцип: исправлять, т. е. менять, полевой диалектный материал, представленный в словаре, можно только на основе другого материала, сохраняя и исходную запись, которая должна быть помечена как ошибочная. При этом приходится признать, что абсолютно объективных критериев для сравнения доказательной силы различных иллюстративных примеров до сих пор не выработано» [Шаповал 2010а: 69].
«В исключительных случаях, когда тексты могут быть проверены по первоисточнику или повторяются в вариантах, решение сомнительных чтений и толкование темных слов значительно облегчаются показаниями этих источников. В общем же и здесь, как и для других случаев выяснения темных русских слов, необходимы словари языка современного, старого и областного гораздо более полные, чем мы имеем» [Чернышев 1970: 317]. Исследователями подчеркивается, что «…возможности сплошного контроля материала по определенным формальным параметрам заметно облегчаются автоматическим поиском по электронной версии. В целом этот инструмент превосходит ручную выборку по надежности и оперативности и позволяет учитывать значительный объем материала» [Шаповал 2010б: 168]. Кроме того, «для значительного запаса темных слов русского языка нетрудно установить важнейшие группировки в зависимости от причин их происхождения» [Чернышев 1970: 303].
Автор настоящей публикации имеет непосредственное отношение к лексикографирова-нию и не понаслышке знает о проблемах, так подробно развернутых выше. Наименее сложно в этом отношении составление учебных терминологических тезаурусов для самостоятельной работы студентов, осуществляемое с опорой на многочисленные источники. Но обработка материалов диалектологических экспедиций (расшифровка полевых записей, сделанных в сельских населенных пунктах Пермского края, формирование картотек проектируемых и находящихся в процессе создания словарей, электронная обработка данных), а затем описание диалектной лексики в ходе составления словарных статей для «Акчимского словаря» (выпуски 5, 6), «Словаря русских говоров севера Пермского края», для серии публикаций «Материалы к “Фразеологическому словарю русских говоров севера Пермского края”» [Боброва (Богачева) 2010; Богачева 2011] требует согласиться со всем сказанным нашими предшественниками.
Последние наши исследования связаны преимущественно с изучением местной фразеологии. К сожалению, и в области диалектной фра-зеографии мы неоднократно сталкивались с фактами недостоверности лексикографирования, но в первую очередь – с необходимостью преодолевать ее в процессе собственных изысканий. В отношении таких единиц, полагаем, уместно было бы использовать понятия «фразеологический фантом» (вслед за В. П. Жуковым) либо «фразе-офантом», «псевдофразеологизм».
Единственная работа, непосредственно связанная с интересующим нас вопросом, принадлежит В. П. Жукову и построена на фактах современного русского литературного языка. Ее автором вводится термин «фразеологический фантом», под которым предлагается понимать
«воспроизводимые словосочетания (сочетания слов), по некоторым формальным признакам напоминающие фразеологизмы, но в действительности ими не являющиеся» [Жуков 2009: 58].
В. П. Жуков оговаривает то, что им предприняты еще только первые шаги на подступах к данной проблематике и он «ограничился иллюстрацией наиболее характерных случаев мнимой фразеоло-гичности» [там же: 60]; исследователь упоминает как предшественника лишь Д. Н. Овсянико-Куликовского: «Интересные замечания о формальности, фиктивности и мнимости в языке в связи с развитием грамматических категорий находим в «Синтаксисе русского языка» Д. Н. Овсянико-Куликовского (СПб., 1912. С. XXXIII)» [там же: 60].
В работе В. П. Жукова выделено 4 группы псевдофразеологизмов: «Одна часть из них [1]2 близко смыкается с периферийными фразеологическими явлениями ( в обнимку , с азов , без шуток и под.), другая часть по воле отдельных исследователей и составителей словарей искусственно наделяется знаком фразеологичности по формальным [2] или фиктивным [3] основаниям (/ не / пара , / не / ровня , / не / чета , / не / авторитет ; / не / + x , где x – любой глагольный фразеологизм и под.). Особое место в иллюзорном фразеологическом пространстве занимают [4] потенциальные фразеологизмы ( бежать от себя , взяться рука с рукой , запорошить глаза и под.), которые, несмотря на свой вполне фразеологический облик, также остаются за порогом русской идиоматики» [там же: 60].
Как видим, в представленной публикации интересующая нас проблема рассматривается в особом аспекте: в частности, в силу специфики материала (данных литературного языка) здесь не так остро стоит вопрос о реальном бытии той или иной единицы в языковой системе, поскольку устойчивые обороты состоят из реально существующих лексем. Главный вопрос, касающийся мнимой фразеологии в литературном языке, – вопрос о статусе выделяемого оборота (как свободного либо связанного сочетания слов или словосочетания). Впрочем, этот аспект крайне актуален и для местных говоров.
Изучив специальную литературу, мы пришли к выводу, что в центре внимания критиков отечественной лексикографии оказывается преимущественно лишь один тип псевдолексем и псевдофразеологизмов – таких, которые мы называем «заголовочными». Изучив диалектные материалы, мы заключили, что фантомы несколько разнообразнее и формируют три группы: фантомы заголовочные, грамматические и семантические – в зависимости от того, достоверность какого плана (функционального, формального, содержательного) при отражении языковой единицы в словаре вызывает сомнения. Можно при этом усомниться в справедливости употребления понятия «фантом» в отношении единиц с неверно определенными грамматическими характеристиками либо с неверно толкуемым значением, аргументировав это тем, что формально такие языковые факты выделены верно. Однако, с нашей точки зрения, применительно к данным типам «мнимых устойчивых выражений» использование термина также справедливо, поскольку оспариваться может не только факт существования чего-либо как такового, но и соответствие действительности приписываемых ему свойств. Точно так же нас заставит усомниться сообщение в СМИ о том, что обнаружен летающий слон с крыльями, слон, который умеет выполнять сальто-мортале, слон, который залегает в спячку, соорудив предварительно берлогу, или что все слоны обладают способностью общаться телепатически. Вывод будет однозначен: «Газетная утка!», «Сказки!», «Вымысел!», в то время как сам факт существования слонов останется по-прежнему неоспоримым.
Имеющийся опыт позволяет нам предложить такую классификацию основных видов псевдофразеологизмов в диалектологических работах4.
-
1. Заголовочные фразеофантомы:
-
1) обнаруживающие нарушения норм орфографии, например: в б згодь ‘очень пьяный’ [СПГ 1: 30] (часто фразеологичность приписывается наречным сочетаниям слов);
-
2) обнаруживающие ошибочную интерпретацию функции оборота речи, например: как с лье ‘о жестких, прямых волосах’ ( Были бы кудрявы да легки, а то как сильё, твердые, как у лошаде ) [Прокошева: 336]3 (нередко фразеологичность приписывается сравнительным оборотам, особенно часто – при глаголах движения);
-
3) обнаруживающие ложное наделение идиоматичностью и / или воспроизводимостью в речи, например: регулярно воспроизводимая конструкция к слый об бок ‘подберезовик, раскисший от дождя или от старости’ ( Кислы обабки я не беру: ни на чё они негодны ) [там же: 240], ср. кислый ‘мягкий, разбухший’ [СПГ 2: 390]; невоспроизводимая и неидиоматичная конструкция сух я в блочка ‘о стройной, худощавой женщине’ ( Во мордочка! Сбежалася, как сухая воблоч-ка ) (из рукописи 5-го выпуска «Акчимского словаря»; по указанным соображениям из корпуса словаря оборот был исключен);
-
4) обнаруживающие неоправданное расширение сочетаний лексем за счет включения стержневых слов в словосочетание и последующее приписывание обороту фразеологичности, ср.: в сердц х сойт сь ‘по любви’ ( Катюшеньку ка-жду ночь провожал паренёк молодой, познако-
- мились и в сердцах сошлись, и решили друг друга любить) [СРГЮП 3: 148] (полагаем, что в данном случае указанное значение свойственно лишь наречной конструкции в сердцах);
-
5) обнаруживающие несоответствие компонентов заголовочного ФЕ иллюстративному материалу, например: сквозь з бы (з бки) ‘тихо, невнятно’, ‘надменно, свысока’, в то время как во всех цитатах встречаем скРозь [Прокошева: 141];
-
6) обнаруживающие неверное членение компонентов конструкции, например: за подрýки ‘под руки’: Меня к жениху-ту двое вывели, за подруки [СРГКПО: 190], где мы предполагаем ошибочное переразложение двойного предлога за-под ;
-
7) обнаруживающие неправильное прочтение рукописных материалов (смешение рукописных знаков), например: сбить (сбив ть) с пахтей ‘сбить с толку’ [Прокошева: 321] вместо сбить (сбив ть) с пахней .
-
2. Грамматические фразеофантомы:
-
1) обнаруживающие несоответствие грамматической формы толкования форме толкуемого фразеологизма, например: в пéню ст вить ‘упрекнуть в чем-либо, обидеть’ [там же: 357] (видовое несоответствие глаголов в ФЕ и в толковании), в разб ге ‘шататься будучи пьяным’ [СПГ 2: 258] (толкование наречного сочетания через глагольную конструкцию);
-
2) обнаруживающие неверное определение грамматического статуса оборота (в частности, неразличение фразеологических и наречных сочетаний, что нередко поддерживается неверным написанием наречий – раздельным вместо слитного), ср. выше: в б згодь , в разб ге , за подрýки ;
-
3) обнаруживающие неразличение частиц не и ни , например: не за соб й не перед соб й ‘совсем никого нет’ [Прокошева: 328], не п сен не б сен не знать ‘быть молчаливым, замкнутым’ [там же: 139].
-
3. Семантические фразеофантомы5:
-
1) обнаруживающие толкование, не соответствующее, а иногда противоречащее смыслу ФЕ, например: бить др би ‘заниматься счислением дробей’: Я на печке на дошшэчке дроби бить училася. Я не знаю, почему измена получилася [Богачева 2010: 161] (ср.: бить др би ‘танцевать, выстукивая ритм танца ногами’ [СРГСПК 1: 101]); наговор ть нед лю с четверг (с четверг м) ‘наговорить правду’ ( Придет, наговорит неделю с четвергом, верьте ему ) [СПГ 1: 544];
-
2) обнаруживающие следование за прямым значением или формой входящих в ФЕ компонентов, ср.: друг-н другу зак жешь ‘запретишь’ [СПГ 1: 288] (в соответствии с цитатой более точной была бы, например, формулировка ‘больше не захочется’: Возьми-ко у меня без спроса –
так отчихвостю, друг-недругу закажешь );
-
3) обнаруживающие сужение / расширение дефиниций, например: ср. д ньги выпев ть ‘исполнять величальные песни гостям свадьбы’ [СРГКПО: 71] и ‘исполняя свадебные величания, получать от гостей плату’ [ЭССТСП: 40]; прого-л сная п сня ‘протяжная песня’ [СПГ 2: 95], ‘протяжная песня, исполняемая в несколько голосов’ [Прокошева: 269] и ‘длинная песня’ [СРГЮП 2: 317]; язык затопт ть ‘не начать вовремя говорить по какой-либо причине’ [СПГ 1: 312], ‘не начать говорить вовремя’ [Прокошева: 133] (иллюстрации подводят к мысли, что упущено принципиально важное указание на субъекта действия: так говорят исключительно о детях, которые начинают рано ходить; по народным наблюдениям, дети, развитые физически, обычно отстают в развитии речевом);
-
4) обнаруживающие неразличение прямых / образных (метафорических) номинаций, например: крап ва ж лкая ‘язвительный человек’ [там же: 182] и ‘о язвительном человеке’ [СПГ 1: 433]; ш бный язык ‘невыразительная речь’ [Прокошева: 430], ‘невыразительная, неправильная речь’ [СПГ 2: 571], ‘о дефектной речи, а также о человеке с какими-либо дефектами речи’ [АС 6: 260].
С критикой грамматической подачи фразеологизмов в диалектных словарях ранее выступала И. А. Кобелева. Фразеографа интересовал грамматический аспект русской диалектной фра-зологии. Тем не менее и в этой работе (на наш взгляд, с неизбежностью) прозвучали некоторые критические замечания: в частности, отмечается, что «разрозненная подача видовых разновидностей фразеологических единиц, имеющих в составе глагольный компонент, может в некоторых случаях повлечь за собой и различия в толковании этих единиц» [Кобелева 2007: 25], указывается на случаи ошибочного выделения в качестве самостоятельных форм множественного числа именных сочетаний [там же: 27], на примеры не-соотнесенности значений совершенного / несовершенного вида, переходности / непереходности, возвратности / невозвратности, личного / безличного значений в глагольных фразеологизмах [там же: 30–32]. Автор справедливо пишет: «Такое оформление глагольно-пропозициональной фразеологии затемняет реальные субъектнообъектные отношения между фразеологизмом и его словесным окружением» [там же: 32].
Замечания И. А. Кобелевой убеждают нас в верности излагаемых здесь построений и в логичности выделения в качестве особого вида – грамматических фразеофантомов.
Рассмотренные факты позволяют развести заголовочные, грамматические и семантические фразеофантомы, а как следствие, – дать возможно более точное определение термина «фразеологический фантом (фразеофантом, псевдофразеологизм)»: это словосочетание или сочетание слов, ложно выделяемое как устойчивое, либо фразеологизм с ложно определенным грамматическим значением, ошибочно толкуемой семантикой.
Полагаем, можно также говорить о стилистических фразеофантомах (ср., например, стрáшной б куль ‘говорун’ [Прокошева: 16] и шутливо ‘об озорном, веселом человеке’ [СПГ 1: 17]). Однако сами мы являемся сторонниками отказа от коннотативно-стилистических помет в словарях, поскольку практика показывает, что точная идентификация стилистических характеристик языковых единиц де-факто невозможна. Они определяются непосредственно в речи, с учетом интонационного рисунка, многочисленных экстралингвистических факторов (жестов, мимики говорящего, социального контекста и др.), а между тем составитель словаря располагает, как правило, одними только картотечными материалами. В абсолютном большинстве случаев нет возможности восстановить контекст в полной мере, поэтому указанного рода пометы в словарях теперь уже обычно не даются во избежание их приблизительности, недостоверности и авторской предвзятости. И мы говорим о стилистических фразеофантомах лишь теоретически, задавая перспективы для других исследователей, располагающих б о льшими возможностями. По этим же причинам данный тип псевдофразеологизмов проигнорирован в предложенном выше определении термина.
Итак, несмотря на то что количество авторов, поднимающих проблему достоверности лексикографических источников, невелико, даже в известных нам немногочисленных работах она звучит достаточно остро. К настоящему моменту в лексикографической критике выработана актуальная терминология, описывающая сложившуюся ситуацию, авторами обозначены пути преодоления неточностей и ошибок при описании лексических материалов в словарях.
Опыт работы с региональной фразеологией позволяет поставить вопрос об уместности критики фразеографии (прежде всего диалектной), выделить определенные типы псевдофразеологизмов (заголовочные, грамматические, семантические) и их виды.
Реализуя перспективы заявленной проблематики, в дальнейшем подробнее рассмотрим выявленные виды диалектных фразеологических фантомов. Как и в настоящей статье, в качестве материала для исследования мы намерены при- влечь лексикографические источники одного региона, а именно те, в которых описываются русские говоры Пермского края.
Примечания
-
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 12-34-01043а1, 14-04-00437а).
-
2 Вставки с порядковой нумерацией типов фразеологических фантомов наши. – М. Б.
-
3 В цитатах сохранена орфография и пунктуация, предложенные авторами словарей.
-
4 Подробнее см.: [Боброва 2014].
-
5 Рассматривая лексемы с неверно истолкованной семантикой исследователи обычно ограничиваются констатацией «ошибки», «ошибочности» элементов словника [Добродомов 1975; ср.: Крючкова 2009].
Список источников (с сокращениями)
АС – Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области (Акчимский словарь): в 6 вып. Пермь, 1984–2011.
Прокошева – Прокошева К. Н. Фразеологический словарь пермских говоров / Перм. гос. пед. ун-т. Пермь, 2002.
СПГ – Словарь пермских говоров: в 2 т. Пермь: Книжный мир, 2000-2002.
СРГКПО – Словарь русских говоров Коми-Пермяцкого округа. Пермь: ПОНИЦАА, 2006.
СРГСПК – Словарь русских говоров севера Пермского края. Пермь, 2011. Вып. 1: А–В.
СРГЮП – Подюков И. А., Поздеева С. М., Свалова Е. Н., Хоробрых С. В., Черных А. В. Словарь русских говоров Южного Прикамья. Пермь, 2010. Вып. I (Абалтус – Кычига).
ЭССТСП – Подюков И. А., Хоробрых С. В., Антипов Д. А. Этнолингвистический словарь свадебной терминологии Северного Прикамья. Усолье; Соликамск; Березники; Пермь: Перм. кн. изд-во, 2004.
Reader in the Department of Theoretical and Applied Linguistics
Perm State University
Список литературы О фантомах в диалектной фразеографии: к постановке вопроса
- АС -Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области (Акчимский словарь): в 6 вып. Пермь, 1984-2011
- Прокошева -Прокошева К. Н. Фразеологический словарь пермских говоров/Перм. гос. пед. ун-т. Пермь, 2002
- СПГ -Словарь пермских говоров: в 2 т. Пермь: Книжный мир, 2000-2002
- СРГКПО -Словарь русских говоров Коми-Пермяцкого округа. Пермь: ПОНИЦАА, 2006
- СРГСПК -Словарь русских говоров севера Пермского края. Пермь, 2011. Вып. 1: А-В
- СРГЮП -Подюков И. А., Поздеева С. М., Свалова Е. Н., Хоробрых С. В., Черных А. В. Словарь русских говоров Южного Прикамья. Пермь, 2010. Вып. I (Абалтус -Кычига)
- ЭССТСП -Подюков И. А., Хоробрых С. В., Антипов Д. А. Этнолингвистический словарь свадебной терминологии Северного Прикамья. Усолье; Соликамск; Березники; Пермь: Перм. кн. изд-во, 2004
- Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1969. 608 с
- Боброва М. В. Фразеофантомы в диалектных словарях Пермского края//Известия Уральского федералального университета. Екатеринбург, 2014. №2 (127). С. 157-171. (Сер. 2. Гуманитарные науки)
- Боброва (Богачева) М. В. Материалы к «Фразеологическому словарю русских говоров севера Пермского края» II//Лингвокультурное пространство Пермского края: материалы и исследования. Пермь, 2011. Вып. 3. С. 224-239
- Богачева М. В. Материалы к «Фразеологическому словарю русских говоров севера Пермского края»//Лингвокультурное пространство Пермского края: материалы и исследования. Пермь, 2010. Вып. 2. С. 153-180
- Добродомов И. Г. Арготические глаголы с маскировочным суффиксом -ма-в лексикографии//«И нежный вкус родимой речи...»: сб. науч. тр. Арзамас, 2011. С. 183-188
- Добродомов И. Г. Как появляются и живут «призрачные» слова//Palaeoslavica. VI. Cambridge; Massachusetts, 1998. Р. 273-280
- Добродомов И. Г. О «призрачных» словах//Русская речь. 1999. №1. С. 101-106
- Добродомов И. Г. Проблемы филологической достоверности слова в словарях//Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии. М., 1975. Вып. 4. С. 29-327
- Добродомов И. Г., Шаповал В. В. О призрачных словах у лексикографов//Ogrod nauk filologicznych. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi. Opole: Uniw. Opolski, 2005. C. 147-154
- Добродомов И. Г., Шаповал В. В. Стрёма! (Из историко-лексикологических маргиналий к одному лексикографическому проекту)//Единым письмен употреблением памяти подкрепляется вечность. СПб., 2007. С. 183-210; URL: http://www.argotism.ru/works/dobrodomov-shapoval-07a.htm (дата обращения: 27.09.2012)
- Жуков А. В. Фразеологические фантомы в русском языке//Вестник Новгородского государственного университета. 2009. №51. С. 57-60
- Журавлев А. Ф. Лексикографические фантомы. 1: СРНГ, А-З//Dialectologia slavica: сб. к 85-летию С. Б. Бернштейна: Исследования по славянской диалектологии. 4. М., 1995. С. 183-193
- Журавлев А. Ф. Лексикографические фантомы. 2: СРНГ, И-К//Слово и культура: Памяти Н. И. Толстого. М., 1998. Т. 1. С. 93-104
- Журавлев А. Ф. Лексикографические фантомы. 3: СРНГ, Л-M//Слово во времени и пространстве (К 60-летию проф. В. М. Мокиенко). СПб., 2000. С. 265-282
- Журавлев А. Ф. Лексикографические фантомы. 4: СРНГ, Н-О//Исследования по славянской диалектологии. 7. Славянская диалектная лексика и лингвогеография. М., 2001а. С. 265-281
- Журавлев А. Ф. Лексикографические фантомы. 5: СРНГ, О-П//Аванесовский сборник. К 100-летию со дня рождения чл.-корр. АН СССР Р. И. Аванесова. М., 2002а. С. 382-389
- Журавлев А. Ф. Лексикографические фантомы. 6: СРНГ, П//Известия Уральского государственного университета. 20. Гуманитарные науки. Вып. 4. История, филология, искусствоведение. Екатеринбург, 2001б. С. 172-178
- Журавлев А. Ф. Лексикографические фантомы. 7: СРНГ, П//Исследования по славянской диалектологии. 8. Восточнославянская диалектология, лингвогеография и славянский контекст. М., 2002б. С. 120-131
- Кобелева И. А. Русская диалектная фразеография: грамматический аспект (на материале словарей говоров Русского Севера). СПб.: Наука, 2007. 200 с
- Крючкова Л. Л. К вопросу о филологической достоверности информации, содержащейся в словарях//Материалы 60-й науч.-практ. конф. преп. и студ. БГПУ. Благовещенск, 2009. Ч. II. С. 80-85; URL: http://www.arano.ru/system/files/work/k_voprosu_o_filologicheskoy_dostovernosti_informacii_soderzhashcheysya_v_slovaryah.doc (дата обращения: 04.07.2013)
- Мызников C. А. Проблема научной достоверности в диалектной лексикографии//Ad fontes verborum. Исследования по этимологии и исторической семантике. К 70-летию Ж. Ж. Варбот. М., 2006. С. 256-264
- Норман Б. Ю. Лексические фантомы с точки зрения лингвистики и культурологии//Язык и культура: докл. Третьей междунар. конф. Киев, 1994. С. 53-60
- Попова Н. В. Словарные фантомы как следствие переразложения сложных предлогов//Проблемы русской лексикологии и лексикографии: тез. докл. межвуз. науч. конф. Вологда, 1998. С. 96
- Трубачев О. Н. Задачи этимологических исследований в области славянских языков//Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. Вып. 33-34. Актуальные проблемы славяноведения. М., 1961. С. 202-210
- Чернышев В. И. Темные слова в русском языке//Чернышев В. И. Избр. труды. М., 1970. Т. 1. С. 303-317
- Шаповал В. В. Воронежские диалектизмы в «Словаре русских народных говоров» (проблемы лексикографической достоверности)//Вестник ВГУ. Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2010а. №1. С. 66-69
- Шаповал В. В. Графические дублеты в словарях: приемы верификации//Русский язык в научном освещении. М., 2010б. №1(19). С. 158-168; URL: http://www.philology.ru/linguistics2/shapoval-10b.htm (дата обращения: 21.09.2012)
- Шаповал В. В. Источниковедение и лексикография жаргона. 2. «Словарные фантомы»//Шаповал В.В. Текст источника как объект анализа для историка и филолога. М., 2001. С. 13-37; URL: http://library.by/portalus/modules/linguistics/readme.php?subaction=showfull&id=1106659712&archive=&start_from=&ucat=4& (дата обращения: 21.09.2012)
- Шаповал В. В. Новосибирские диалектизмы в «Словаре русских народных говоров» (вып. 1-41): проблемы лексикографической достоверности//Гуманитарные науки в Сибири. Новосибирск, 2009а. №4. С. 123-126
- Шаповал В. В. Словари жаргона как слепок эпохи. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Schap/04.php (дата обращения: 21.09.2012)
- Шаповал В. В. Словарные фантомы. 2002. URL: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=79304 (дата обращения: 21.09.2012)
- Шаповал В. В. Словарь как гипертекст и аспекты лексикографической критики//Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом образовании: сб. науч. ст. Вып. 8, т. 1. М., 2009б. С. 233-237; URL: http://www.philology.ru/linguistics2/shapoval-09b.htm (дата обращения: 21.09.2012)
- Шаповал В. В. Челябинские диалектизмы в «Словаре русских народных говоров» (вып. 1-41): проблемы лексикографической достоверности//Вестник Челябинского государственного университета. 2009в. №35(173). Филология. Искусствоведение. Вып. 37. С. 152-154
- Machek V. Etymologický slovník jazyka českého. Druhé, opravené a doplnĕné vydání. Praha: Academia, 1968