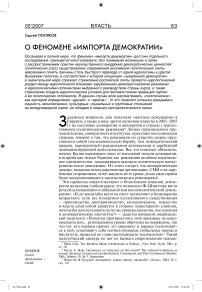О феномене "импорта демократии"
Бесплатный доступ
Осознавая в полной мере, что феномен «импорта демократии» достоин отдельного исследования, приходится констатировать: без понимания возникших в связи с распространением практик насильственного внедрения демократических ценностей политических угроз существованию современной российской политической элиты невозможно понять причины столь быстрого перехода от одной идеологемы к другой. Выскажем гипотезу, в соответствии с которой концепция «суверенной демократии» в значительной мере отражает стремление российской элиты провести идеологический раздел между идеологически близкими зарубежными демократическими режимами и идеологическими оппонентами выбранного руководством страны курса, а также стремление создать идеологические условия для противостояния правящей партии и ее политических оппонентов. В данном случае если рассматривать «политическое» как критерий определения «друзей» и «врагов»1, то это позволит успешно раскрывать сущность экономических, культурных, социальных и групповых отношений на международной сцене, не попадая в ловушку методологического хаоса
Короткий адрес: https://sciup.org/170169129
IDR: 170169129
Текст научной статьи О феномене "импорта демократии"
З ададимся вопросом, как повлияли «цветные революции» в Евразии, а также в ряде других регионов планеты в 2003–2005 гг. на состояние демократии и автократии в странах с транзитивными политическими режимами? Логика патронального пре-зидентализма, совокупность институтов, присущих постсоветским странам, говорит о том, что революции по существу скорее представляли собой последовательную борьбу, чем демократический прорыв, порожденный гражданскими активистами и зарубежной демократизирующей деятельностью. Все это помогает объяснить, почему Грузия переживает откат от идеальной модели демократии, в то время как только Украина, где революция ослабила патрональное президентство, поддерживала высокую политическую конкуренцию после революции. Из этого следует, что автократические лидеры, подавляя негосударственные организации, СМИ и их зарубежных сторонников, могут выучить не те уроки, делая свои страны более восприимчивыми к насильственным революциям2.
Эти процессы свидетельствуют о безусловном влиянии демократии на вызовы глобализации, что позволило Ф. Шмиттеру вести речь об установлении «глобальной или космополитической демократии». «Если масштабы всего на свете неумолимо и безвозвратно возрастают, если все измерения коллективного существования – производство, воспроизводство, коммуникации, тождество и власть сами собой движутся в сторону планетарного слияния, почему бы нам не поднять на тот же уровень (конечно, постепенно) и демократические институты?» – задается вопросом американский политолог. «Попытки противостоять этой динамике на национальном или… региональном уровне обречены на поражение, так что тот, кто первым примет эту динамику и заранее подготовится к ней, установив у себя соответствующие глобальные нормы и институты, окажется во главе наступающего тысячелетия»3. Такой политическ ий дискурс не мог не вызвать сопротивления находя-
-
1 Mark Lilla. The Reckless Mind. Intellectuals in Politics. -New York: Nyrb, 2001, р. 47–76
ПОЛЯКОВ Се р гей
Анатольевич – СКАГС
-
2 Henry E. Hale. Democracy or autocracy on the march? The colored revolutions as normal dynamics of patronal presidentialism. Communist and Post-Communist Studies. 2006, Volume 39, № 3. September
-
3 Шмиттер Ф. Будущее демократии: можно призму масштаба? «Логос», 2004, № 2, стр. 143
щихся в транзитивных странах политических режимов.
«Принятое в Вашингтоне понятие «распространение демократии» стало рассматриваться в других странах не как отражение американских устремлений принципиального характера, а как более благопристойный синоним термина «смена режима», означающего устранение «проблемных» правительств путем применения военной силы или иными средствами, – отмечает в этой связи американский исследователь из Фонда Карнеги Т. Карозерс. – Более того, поскольку идея распространения демократии была использована Белым домом как главное обоснование вторжения в Ирак, ее начали напрямую ассоциировать с американской интервенцией и оккупацией. Администрация Буша дала понять, что заинтересованавсвержениидругихиност-ранных режимов, угрожающих интересам безопасности Соединенных Штатов, в частности в Иране и Сирии, и этот факт представил задачи президента Буша в сфере распространения свободы в еще более угрожающем и враждебном свете. Справедливость такого вывода подтверждается тем, что когда Буш и его главные советники перечисляют «форпосты тирании», в их списке неизменно оказываются правительства, недружественно настроенные к США. В то же время дружественные, но не менее репрессивные режимы, в частности в Саудовской Аравии, не упоминаются. В результате многие государства, как автократические, так и демократические, начали опасаться всего комплекса американских программ по построению демократии, даже если в прошлом те не вызывали споров и возражений. Правительства, жаждущие расшатать эти программы в своих собственных интересах, получили возможность представить свои шаги как оправданное сопротивление агрессивному вмешательству США»1.
Рассматривая вышеуказанную ситуацию, политолог Олег Игнатов пишет: «Объявив войну тирании, вряд ли стоит ожидать поддержки со стороны тиранов, которыми изобилует современный Ближний Восток. Когда президент Буш объявил о необходимости распространения демократии в исламском мире, он наложил на себя обязательства быть в ответе за политику, которую многие в регионе восприняли как прямую угрозу своим интересам. Эта политика обращается к разрушению всего сложившегося в исламском мире миропорядка и вряд ли сможет обрести множество политических союзников даже в будущем. Кроме того, сама политика во многом была непоследовательной, а точнее, была непоследовательной ее реализация. Чтобы добиться демократизации, США сотрудничали с теми, кто изначально не был демократичен (саудиты, Пакистан). Неоконсерваторы отмечают непоследовательность реализации своих идей как один из главных источников текущих неудач администрации. В результате проведения такой политики у США не останется союзников нигде, если они будут и дальше приносить в жертву принципы в обмен на кратковременные цели. Однако здесь вновь встает вопрос об их осуществимости и реализации: как, например, добиться стабилизации Афганистана и Ирака, не опираясь на поддержку Пакистана и Саудовской Аравии?»2.
И далее Игнатов замечает: «Альтернатива демократическому глобализму – демократический реализм, в соответствии с которым нужно осуществлять военную экспансию только там, где защита свободы является критической для успеха в более большой войне против экзистенциального врага. Другими словами, экспансия допустима и оправдана лишь в тех регионах, где интересам США угрожает исламский радикализм. Демократический реализм и демократический глобализм являются демократическими, потому что защищают распространение демократии как цель и средство американской внешней политики. Но первый является реализмом, потому что отвергает универсализм и идеализм демократического глобализма и всегда требует геополитической необходимости как условия для военной интервенции. Американская интервенция обязательно должна быть стратегически обоснованной. Центральная аксиома демократического реализма состоит в том, что США будут продолжать впредь поддерживать демократию по всему миру, но применяться сила станет только там, где это явится стратегически необходимым, а именно – в местах, где происходит война с экзистенциальным врагом, который представляет глобальную угрозу для свободы. Экзистенциальный враг, под которым имеется в виду исламский экстремизм, угрожает фундаментальным ценностям западной цивилизации. Война с этим врагом – борьба за выживание или борьба за существование. Сосуществование с ним оказывается полностью невозможным»1.
Импорт демократии получил теоретическое обоснование в работах известного американского неконсервативного публициста Чарльза Краутхаммера, разработавшего реформированную версию неконсервативной внешней политики – идею демократического реализма, которая внесла существенный вклад в текущую полемику вокруг оснований неоконсерватизма. Согласно Краутхаммеру, доктрина Буша предполагает, что США должны не только атаковать врага – исламский экстремизм, а попытаться изменить условия, которые дали ему рождение. Это означает изменение внутренней структуры арабских режимов и культуры арабского/ исламского мира – единственного региона, который не был затронут модернизацией и демократизацией поствоенной эры. Данное положение должно оставаться бесспорным и теперь при планировании внешней политики. Причина же того, что в Ираке не получается построить демократию, кроется не в неготовности арабов к демократии, на которую столь часто указывают либералы, а в том, что Ирак на протяжении тридцати лет разрушался тираническим режимом. Прошлый режим, таким образом, является причиной всех текущих неудач.
Краутхаммер квалифицирует позицию большинства современных неоконсерваторов как демократический глобализм, согласно которому демократия необходима как главное средство достижения глобальной безопасности. Сторонники этой доктрины конкретизируют и само понимание демократии: демократия – это не только свободные выборы, но и ограниченное правительство, защита меньшинств, индивидуальных прав, власть закона и открытые экономики. Распространение демокра- тии получает здесь не только моральное, но и геополитическое значение. Главная проблема демократического глобализма состоит в его излишней амбициозности и идеалистичности, доказательством чему служат многочисленные неуспехи и провалы администрации Буша. К сторонникам демократического глобализма Краутхаммер относит президента Джорджа Буша и премьер-министра Тони Блэра, а к его интеллектуальным отцам – Билла Кристалла и Роберта Кагана2.
Американская политология сегодня организуется вокруг ключевой идеи, выраженной Р. Хаасом: надо доказать миру, что действовать против сверхдержавы неумно и бесполезно3. При этом демократические идеалы становятся заложниками двойных стандартов обусловленных экономическими интересами государства.
К примеру, рассматривавший перспективы развития демократии в Туркмении после смерти президента Сапармурата Ниязова британский политолог Саймон Тисдол констатирует: «Но как случилось в 2006 году по другую сторону Каспия, когда демократия бросила вызов Азербайджану, Вашингтон, питающий надежду на энергетические сделки, видимо, предпочтет не раскачивать лодку. Дружественная Туркмения, граничащая с Ираном и Афганистаном, имеет также стратегическую ценность. Это заставило оппозиционного кандидата в президенты в изгнании Худайберды Оразова призвать США не соглашаться на циничную сделку «газ в обмен на диктатуру».
«Прошу вас, покажите, что права и свободы человека для вас не абстрактная теория, что вы готовы бороться за них не только там, где вам удобно, а во всем мире», – заявил он. Впрочем, неизвестно, слышит ли его хоть кто-нибудь»4. Пример Туркмении – яркая иллюстрация двойных стандартов в вопросах импорта демократического процесса.
Важное значение в разработке теории волн демократического процесса и анализа особенностей политических практик современной волны принадлежит уже упоминавшемуся известному американскому политологу, директору американского Института стратегических исследований Гарвардского университета С. Хантингтону, который в вышедшей в 1991 г. монографии «Третья волна. Демократизация в конце XX века» дал развернутую и целостную картину происходящих в современном мире изменений, проанализировав предпосылки, ход и перспективы перехода от тоталитаризма и авторитаризма к демократии.
В упомянутой работе С. Хантингтон предлагает следующее определение «демократической волны» (или «волны демократизации»): «Волна демократизации есть переход группы стран от недемократических режимов к демократическим, протекающий в определенный период времени и по численности существенно превосходящий те страны, в которых за тот же период времени развитие протекает в противоположном (то есть антидемократическом) направле-нии»1. Эта волна включает в себя также либерализацию и частичную демократизацию политической системы.
С. Хантингтон выделяет следующие волны демократизации:
первая, длительная волна демократизации – 1828–1926 гг., первая волна отката – 1922–1942 гг., вторая короткая волна демократизации – 1943–1962 гг., вторая волна отката – 1958–1975 гг., третья волна демократизации – с 1974 г.2 «Третья волна демократизации», как популярная концепция политической науки, разработанная в 70-е годы известным американским исследователем Самюэлом Хантингтоном применительно к Южно-Европейскому и Латиноамериканскому опыту демократизации, стала широко и отчасти не совсем методологически правильно использоваться политологами в 90-е годы как ключ к анализу и пониманию трансформационных процессов в Восточной Европе. Как результат такие категории, как «транзитология», «трансформация»,
«консолидация демократии» и т. д., доминировали не только в журналах сравнительных политологических исследований, сосредоточивавшихся на Латинской Америке, но также получили распространение в исследованиях восточноевропейских коммунистических систем.
В качестве рабочей гипотезы предполагалось, что в обоих случаях – будь то перемены в Латинской Америке или изменения в Восточной Европе – эти процессы касались по существу тех же явлений и процессов, связанных с демонтажем прежних недемократических режимов и рождением плюралистических полицентричных режимов, построенных на принципах либеральной демократии. Другими словами, казалось целесообразным и оправданным предполагать, что южноевропейский и латиноамериканский опыт демократизации мог бы обеспечить аналитиков, занимающихся проблемами «третьей волны демократизации» в Центральной и Восточной Европе, методологически ценным пониманием процессов трансформации3.
В современной России по формальным признакамструктурыгражданскогообще-ства не являлись участниками политического процесса. Вместе с тем практика «цветных революций» на постсоветском пространстве показала, что именно такого рода самоорганизующиеся группы граждан при условии финансовой поддержки могут становиться центрами кристаллизации оппозиции.
В контексте рассматриваемой проблематики важно подчеркнуть, что в условиях стабильного демократического общества структуры гражданского общества не являются политическими акторами, стремящимися к приходу к власти. В государствах, в которых произошли «цветные революции», политические партии оппозиционной направленности были слабы, поскольку их становлению препятствовала правящая элита.