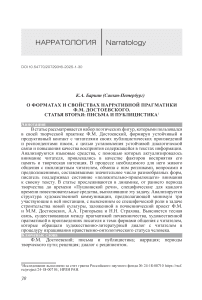О форматах и свойствах нарративной прагматики Ф. М. Достоевского. Статья вторая: письма и публицистика
Автор: Баршт К.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Нарратология
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается набор поэтических фигур, которыми пользовался в своей творческой практике Ф.М. Достоевский, формируя устойчивый и продуктивный контакт с читателями своих публицистических произведений и респондентами писем, с целью установления устойчивой диалогической связи и повышения качества восприятия содержащейся в текстах информации. Анализируются языковые средства, с помощью которых актуализировалось внимание читателя, привлекались в качестве факторов восприятия его память и творческая интенция. В процессе необходимого для него живого общения с имплицитным читателем, обмена с ним репликами, вопросами и предположениями, составлявшими значительное число разнообразных форм, писатель поддерживал состояние «положительно приемлющего» внимания к своему тексту. В статье прослеживаются в динамике, от раннего периода творчества до времени «Пушкинской речи», специфические для каждого времени повествовательные средства, выполнявшие эту задачу. Анализируется структура художественной коммуникации, предполагающей минимум три участвующие в ней инстанции, с выяснением ее специфической роли в задаче строительства новой культуры, заложенной в почвеннический проект Ф.М. и М.М. Достоевских, А.А. Григорьева и Н.Н. Страхова. Выясняется тесная связь, существовавшая между прагматикой почвенничества, художественной прагматикой в произведениях писателя и теми формами общения с читателем, которые обращали художественно литературный диалог с читателем в процедуру взращивания нравственно онтологического статуса человека.
Ф.м. достоевский, письма и публицистика, наррация, периоды творческого пути, рецепция, диалог с реципиентом
Короткий адрес: https://sciup.org/149147786
IDR: 149147786 | DOI: 10.54770/20729316-2025-1-30
Текст научной статьи О форматах и свойствах нарративной прагматики Ф. М. Достоевского. Статья вторая: письма и публицистика
В статье рассматривается набор поэтических фигур, которыми пользовался в своей творческой практике Ф.М. Достоевский, формируя устойчивый и продуктивный контакт с читателями своих публицистических произведений и респондентами писем, с целью установления устойчивой диалогической связи и повышения качества восприятия содержащейся в текстах информации. Анализируются языковые средства, с помощью которых актуализировалось внимание читателя, привлекались в качестве факторов восприятия его память и творческая интенция. В процессе необходимого для него живого общения с имплицитным читателем, обмена с ним репликами, вопросами и предположениями, составлявшими значительное число разнообразных форм, писатель поддерживал состояние «положительно-приемлющего» внимания к своему тексту. В статье прослеживаются в динамике, от раннего периода творчества до времени «Пушкинской речи», специфические для каждого времени повествовательные средства, выполнявшие эту задачу. Анализируется структура художественной коммуникации, предполагающей минимум три участвующие в ней инстанции, с выяснением ее специфической роли в задаче строительства новой культуры, заложенной в почвеннический проект Ф.М. и М.М. Достоевских, А.А. Григорьева и Н.Н. Страхова. Выясняется тесная связь, существовавшая между прагматикой почвенничества, художественной прагматикой в произведениях писателя и теми формами общения с читателем, которые обращали художественно-литературный диалог с читателем в процедуру взращивания нравственно-онтологического статуса человека.
ючевые слова
Ф.М. Достоевский; письма и публицистика; наррация; периоды творческого пути; рецепция; диалог с реципиентом.
K.A. Barsht (St. Petersburg)
ON THE FORMATS AND PROPERTIES OF F.M. DOSTOEVSKY’S NARRATIVE PRAGMATICS. PART 2: LETTERS AND JOURNALISM1
stract
The article examines a set of poetic figures that F.M. Dostoevsky used in his creative practice, forming a stable and productive contact with readers of his journalistic works and respondents of letters, in order to establish a stable dialogical connection and improve the quality of perception of the information contained in the texts. The article analyzes the linguistic means by which the reader’s attention was actualized, his memory and creative intention were involved as perception factors. In the process of the necessary live communication with the implicit reader, the exchange of remarks, questions and assumptions with him, which comprised a significant number of diverse forms, the writer maintained a state of “positively acceptable” attention to his text. The article traces in the dynamics, from the early period of creativity to the time of the “Pushkin Speech”, the narrative means specific to each time that performed this task. The article analyzes the structure of artistic communication, assuming at least three instances participating in it, with clarification of its specific role in the task of building a new culture embedded in the soil project of F.M. and M.M. Dostoevsky, A.A. Grigoriev and N.N. Strakhov. It turns out the close connection that existed between the pragmatics of soil science, artistic pragmatics in the works of the writer and those forms of communication with the reader that turned the artistic and literary dialogue with the reader into a procedure for cultivating the moral and ontological status of a person.
ey words
F.M. Dostoevsky; letters and journalism; narrative; periods of creative path; reception; dialogue with the recipient.
Рассматривая свойства нарративной прагматики Достоевского, нельзя упускать из виду композицию его первого произведения «Бедные люди», возникшую под прямым влиянием многолетнего устного (до 1838 г.), а затем письменного диалога с братом Михаилом Михайловичем (1839–1844), духовно близким ему человеком [Баршт 2015, 379–514]. В этой переписке решались литературно-эстетические вопросы, обкатывались многообразные темы, обсуждались прочитанные книги, получили первоначальное литературное оформление эстетические принципы писателя, его общие философские воззрения и планы на жизнь. Вся последующая творческая прагматика писателя выросла из этого живого обмена мнениями по широкому кругу вопросов с любящим его и горячо любимым братом, и на протяжении всего своего творческого пути он непроизвольно стремился именно к такого рода контакту с читателем. М.М. Достоевский – прототип имплицитного читателя всего, что было им написано в течение жизни.
Творческая прагматика Достоевского основана на тройной событийности: событии, о котором рассказывается, событии акта рассказывания и события восприятия текста читателем, включая изменение ценностной системы реципиента как результат воздействия текста. Эти три события для Достоевского образовывали иерархию: третье обуславливалось вторым, второе – первым, в основе которого лежала интенция посвятить свою жизнь решению «вековечного вопроса» о смысле и цели существования человека. Требуемый для этого контакт с читателем обуславливался онтологической необходимостью диалога. Стремление обрести доверие и заинтересованное внимание читателя, создать атмосферу заинтересованного диалога с ним заметны во всех письмах писателя и типологически близких к ним публицистических произведениях.
В первом из них, объявлении об альманахе «Зубоскал» (1845), Достоевский употребляет полное надежд словосочетание «благовоспитанные читатели» [Достоевский 1972–1990, XVIII, 5], выражая готовность «удовлетворить» их желания [Достоевский 1972–1990, XVIII, 9]; «“Зубоскал” так любит, так уважает, так высоко ценит своих читателей... своих будущих читателей (у него будут, непременно будут читатели!)» [Достоевский 1972–1990, XVIII, 9]. В «Объявлении о подписке на журнал “Время” на 1863 г.» (1862) Достоевский выражает намерение давать «подробный отчет нашим читателям как о пути, уже пройденном нами, так и о том, в чем состоят теперь надежды и намерения наши» [Достоевский 1972–1990, XX, 206]. Для улучшения связи с читателем публикуемый текст планируется снабжать комментарием, указывающим на его полное или частичное соответствие запросам публики: «Читатель требует от вас живой мысли, объяснения дела, источника, откуда оно происходит, указания на средства, хоть намека какого-нибудь…» [Достоевский 1972–1990, XX, 56].
В начальный период творчества писателя такого рода авансов и похвал читателю в публицистических произведениях особенно много, что обнажает обеспокоенность автора судьбой своего произведения. За этим проглядывает и весьма критическое отношение к культурному кругозору и уровню самостоятельности мышления потребителя литературы: «…петербургский читатель <…> так и затрепещет радостью от какой-нибудь животрепещущей новости, например, что Женни Линд едет в Лондон» [Достоевский 1972–1990, XVIII, 13]. Достоевский отчетливо понимал то, что было позже теоретически обосновано русскими формалистами и структуралистами XX в. – значение художественного текста образуется в буферной зоне, расположенной между автором и читателем, в столкновении различных языковых и культурных кодов, систем ценностей; семантика текста находится в зависимости, в равной степени от автора и читателя. В черновых записях к «Дневнику писателя» он подметил: «…неясность происходит не всегда от писателя, а оттого, что у самого читателя в голове неясно» [Достоевский 1972–1990, XXIV, 117]. Несколькими страницами позже он повторил эту мысль как важнейшую: «Неясность в голове читателя» [Достоевский 1972–1990, XXIV, 145]. Такого типа людей с «неясностью в голове» Достоевский называл также «рутинными читателями» [Достоевский 1972–1990, XX, 112], «гостинодворскими читателями» [Достоевский 1972– 1990, XXI, 115] или «стертыми пятиалтынными» [Достоевский 1972–1990, XXIV, 297].
Подобного рода критическое отношение писатель адресовал и к себе. Даже радуясь успеху своего фельетона, Достоевский сокрушался о том, что его текст может произвести впечатление выходки тщеславного человека, любой ценой ищущего популярности у заведомо неразвитой публики: «…яд в том, что будто я нарочно и бил на эффект; за неимением читателей высших» [Достоевский 1972–1990, XXI, 114]. Намечая круг основных тем своего будущего журнала «Время» в объявлении о его издании (1861), Достоевский указывает на снижение интеллектуальной планки издания ради обретения им большего количества подписчиков, и оттого в программу журнала входит «самое популярное, доступное и для читателей, не занимающихся специально этими предметами» [Достоевский 1972–1990, XVIII, 40].
В первой из цикла своих программных статей, «Г-н –бов и вопрос об искусстве», Достоевский прилагает все силы, чтобы установить в отношении с читателем атмосферу приватной дружеской беседы, с этой целью формируя ситуацию морального долга перед ним: «…позвольте сказать только несколько посторонних слов, не потому, чтоб они были здесь очень необходимы, а так... потому что сами просятся на бумагу. Простите за искренность» [Достоевский 1972–1990, XVIII, 51]. Подобного рода извинительные реплики, смысл которых – в укреплении внимания читателя к тексту, постоянно встречаются в публицистических статьях Достоевского. Во вступлении к альманаху «Первое апреля» (1846) он пишет: «Если же благосклонному читателю некоторые страницы, те или другие, придутся не по вкусу, то да простит он нас великодушно или – что еще лучше – пусть вырвет их вовсе вон из книги» [Достоевский 1972–1990, XVIII, 110]. Предложения не читать ту или иную фразу, вырвать из текста ненужные страницы переходят в совет вообще не браться за чтение: «Посмотрим, что вам особенно мило, вам, благосклонный читатель? Я говорю “благосклонный”, потому что на вашем месте давно бы бросил читать фельетон вообще и этот в особенности» [Достоевский 1972– 1990, XVIII, 111].
Предполагая негативное отношение читателя к фельетону и не надеясь, что с помощью отрицательного отношения к тексту возможно привлечь к нему внимание, Достоевский прямо предлагает читателю собраться с силами и проглотить заведомо неприемлемый текст: «Но испейте до конца вашу чашу, читатель; прочтите еще следующее, из того же фельетона…» [Достоевский 1972–1990, XIX, 143]. Все перечисленные отрицательные действия, разумеется, лишь метафоры, служащие для результата «от противного» – читать особенно внимательно, доверяя автору, вызвавшему благодаря этим советам состояние искреннего расположения к нему. Эту же цель преследует упрек автора самому себе в том, что он, возможно, продемонстрирует читателю нечто, что может его огорчить или шокировать: «Нет, автор не скроет этой мрачной стороны, систематически опуская ее перед читателем, а только заподозрит себя перед ним в неискренности, в неправдивости» [Достоевский 1972–1990, XVIII, 125]. Разумеется, писатель применял не только столь изощренные приемы, но и более простой метод обнажения серьезности воспроизводимых им сведений: «Мы соображали, подводили, решали и некоторую часть наших выводов хотим теперь сообщить нашим читателям» [Достоевский 1972–1990, XX, 30].
Многочисленность и интенсивность обращений Достоевского к своему читателю показывает, насколько важна была для него проблема искренней ментальной связи с ним [Достоевский 1972–1990, XIX, 69, 81, 97–98, 105, 105, 107, 123, 146, 171–172, 178, 180, 196–197, 202, 202 и мн. др.], нередко встречаются приглашения читателя к совместному анализу излагаемой информации [Достоевский 1972–1990, XIX, 209]. Требовательность к читателю совмещались у Достоевского со столь же высокими требованиями к способу изложения, нельзя было его давать незавершенным и случайным, но и избыток информативности вреден: «Пишет г-н –бов простым, ясным языком, хоть и говорят про него, что он уж слишком жует фразу, прежде чем положить ее в рот читателю» [Достоевский 1972–1990, XVIII, 81]. Эти требования и условия коренились в глубинах эстетики Достоевского, в понимании им свойств эстетической коммуникации.
Источником информации является действующий персонаж, увиденный и объясненный в его поступках нарратором, в то время как фильтрующим информацию третьим участником становится реципиент, обладающий тем более высокой компетентностью, чем менее он эту информацию ограничивает, искажает или задерживает. Качество информационной среды обеспечивается реципиентом и оказывается тем выше, чем дальше отходит он от стремления ограничить свободу «первого» и «второго», именно на уровне данной инстанции рождается предпосылка зарождения нравственно чистого понимания окружающей действительности. Социально-бытовая коммуникация отличается от эстетической в том, что первая нравственно безразлична и структурно одномерна, вторая же обладает двухуровневой структурой и требует позитивного ценностного отношения. В обоих случаях возможны множественные коммуникативные связи, но принципы их организации принципиально различаются. Позиция третьей точки (реципиента) коммуникации, согласно мнению М.М. Бахтина, требует «положительно-приемлющей» и «внесудебной» в нравственном отношении позиции, отрешенной от прямой этической оценки и выводящей бинарный этический диалог на уровень эстетический (метаэтический) [Баршт 2019, 405– 411].
Предполагающая высшую степень свободы и, одновременно, высший уровень нравственной ответственности точка восприятия описываемого в тексте диалога – корневое условие художественной коммуникации, интеграл, переводящий коммуникацию в модус эстетического акта. Ее основное свойство можно определить как формирование идеальной нравственности позиции, отсутствие предвзятости в оценке происходящего, стремление не осуждать, но понимать. Этот модус можно описать как тотальный этический позитив восприятия, равным образом исключающий безоговорочное одобрение, на этой ценностной основе строится структура эстетического восприятия. Из этого ясно, что читатель расположен к тексту зеркально позиции автора [Бахтин 2003, 261], в обоих случаях требующей высокого уровня личной ответственности: «То, что я с моего единственного в бытии места хотя бы только вижу, знаю другого, думаю о нем, не забываю его, то, что и для меня он есть – это только я могу для него сделать в данный момент во всем бытии, это есть действие действительного переживания во мне, восполняющее его бытие, абсолютно прибыльное и новое и только для меня возможное» [Бахтин 2003, 40]. Достоевский понимал это задолго до Бахтина, в статье «Рассказы Н.В. Успенского» он писал: «Сознательный вывод он предлагает сделать самому читателю. А между тем есть следы, что бесстрастие это вовсе не от равнодушия и внутреннего спокойствия. Это можно проследить в самых тонких чертах, иногда как будто ни па что не намекающих» [Достоевский 1972–1990, XIX, 182].
Уверенность писателя в правильности этой позиции была обоснована базовыми положениями органической концепции, которая находилась в основании мыслительной деятельности сотрудников журналов «Время» и «Эпоха». Ее суть сводилась к идее о естественной и неуничтожимой связи между всеми телами, вещами и явлениями во Вселенной, «мире как целом», охвате его единым смыслом и общей для всех энергией жизни, находящей свое выражение в живом религиозном чувстве и кантовском «категорическом императиве». Прагматика Достоевского основывалась на верности и действенности этого постулата: «Мы верим в прямое и здравое чутье масс и думаем, что честно высказанная правда никогда не повредит в глазах читателей ни литературе, ни тому уважению, которое должна питать к ней читающая и мыслящая публика, потому что без уважения не мыслима и сама публика» [Достоевский 1972–1990, XIX, 211]. Тем более, что в 1860–1870 гг. литература и публицистика выдвинулись в основной общественный институт страны, став мощным каналом связи между людьми на основе самых важных тем социальной и культурной жизни: «…теперь масса читателей, может быть, в десять раз увеличилась против той, что была тридцать лет назад», – писал Достоевский в предисловии к публикации «Собора Парижской Богоматери» В. Гюго (1862) [Достоевский 1972–1990, XX, 29]. В некрологе брату Михаилу (1864) Достоевский определил значение его жизни и творчества, исходя из того же свойства эстетической коммуникации: «Он горячо, с страстным участием следил за движением современной общественной жизни… много читал и всегда умел угадать то, что надо читателю и чем наиболее интересуется русский читатель в данный момент» [Достоевский 1972–1990, XX, 122]. Эти оценки можно с полным правом отнести и к самому Ф.М. Достоевскому.
Как редактор «Гражданина» писатель остро переживал чувство «долга» по отношению к читателю [Достоевский 1972–1990, XXI, 275], характерным образом выдвигая некоторые предположения о средствах, способных укрепить доверие к автору со стороны реципиента: «Немного бы, капельку лишь иронии автора над самоуверенностию и молодою заносчивостью героя – и читателю он стал бы милее» [Достоевский 1972–1990, XXI, 97–98]. В своей работе он стремился открыть читателю области реальности, обойденные вниманием других журналов, чтобы «читатель сумел извлечь даже из романов всё то, от чего его так тогда оберегали» [Достоевский 1972–1990, XXIII, 34]. Ценность доверительного общения с читателем для Достоевского была настолько высока, что он мог прибегать к шокирующим заявлениям такого рода: «Дело в том, что я защищаю чертей: на этот раз на них нападают безвинно и считают их дураками. Не беспокойтесь, они свое дело знают; это-то я и хочу доказать» [Достоевский 1972–1990, XXII, 33]. Находясь в прямом смысле этого слова в тесной ментальной связи со своим читателем, Достоевский, по его словам, «слышал вопросы» своих читателей [Достоевский 1972–1990, XXII, 107] и, разумеется, отвечал на них по мере сил и возможностей.
Разумеется, не все реплики этого диалога попадали в печать, но для писателя было важно отлить их в слово. Переписка с читателями «Дневника писателя» временами выходила за рамки журнала и обретала личный характер, ложилась в ответные письма, часть – если это касалось особенно важных вопросов – уходила на страницы очередного номера [Волгин 1974, 154]: «Есть читатели, уже успевшие написать мне, что они ждут того, что я скажу» [Достоевский 1972–1990, XXII, 232] – речь тут идет о спиритизме, в одном из сеансов которого принимал участие Достоевский. Тем более с глубоким уважением относился он к читателям, приславшим ему личные письма, отвечал на них по мере сил. Вплоть до того, что называл «сотрудниками» читателей, с которыми вступал в переписку. Доля правды в этом была, так как он широко пользовался данными, которые в этих письмах содержались [Достоевский 1972–1990, XXV, 358]. Свою роль как некоего мудреца, спасающего и утешающего, он оценивал весьма скромно: 28 февраля 1878 г. в письме Л.А. Ожигиной он написал: «Вы думаете, я из таких людей, которые спасают сердца, разрешают души, отгоняют скорбь? <…> Я убаюкивать не мастер…» [Достоевский 1972–1990, XXX (1), 9].
Достоевский внимательно следил за оценкой читателями его творчества и личности. Он отмечал, что «начиная с самой первой моей повести до самых последних написанных мною строк» у него «всегда было много читателей», на вопросы которых он отвечал охотно и часто, и подчеркивал, что особенное удовлетворение ему достало то, что читатели «заметили во мне человеколюбие» [Достоевский 1972–1990, XXIII, 216]. Работая над статьей, он искренне волновался о том, чтобы быть правильно понятым: «… понятна ли будет цель статьи для всех и каждого из читателей? Не произведет ли, напротив, она на кого-нибудь совершенно обратного впечатления?» [Достоевский 1972–1990, XXIV, 44]; при этом как огня боялся менторского тона: «…когда еще писал статью, чувствовал, что нравоучение необходимо; но мне как-то совестно стало тогда приписать его. <…> Для меня самого эта цель была столь ясна, что я невольно предполагал ее столь же ясною и для всякого. Оказалось, что я ошибся» [Достоевский 1972–1990, XXIV, 44]. Поскольку в «Дневнике писателя» многократно поднимались одни и те же вопросы, он пытался избегать повторений, кротко ссылаясь на определенные статьи предшествующих номеров, например: «Не буду припоминать мою октябрьскую статью в подробности, – может быть, читатели ее не забыли» [Достоевский 1972–1990, XXIII, 36].
Перерывы в контактах с читателями «Дневника писателя» тяготили Достоевского, он жил этим диалогом и вне его чувствовал пустоту и дискомфорт: «Два месяца уже не беседовал с читателем… <…> дело в том, что я пишу иногда мой “Дневник” не только для публики, по и для себя самого (вот потому-то, вероятно, в нем иногда и бывают иные как бы шероховатости…)» [Достоевский 1972–1990, XXIII, 54]. Находясь за границей, лишенный этой привычной и необходимой связи, он жестоко страдал. Об этом он написал А.Н. Майкову 31 декабря 1867 г.: «У меня единственный читатель – Анна Григорьевна… но ведь она в моем деле не судья» [Достоевский 1972–1990, XXVIII (2), 241]; здесь опять звучит мысль о художественной коммуникации как необходимом обществу и имеющем высокой культурное значение «деле». Отсюда же свойственная Достоевскому высокая требовательность к печатному слову: «Настали другие времена, и читатели начинают требовать от журналов серьезных убеждений, честности приговоров и неподкупности их...» [Достоевский 1972–1990, XXVII, 151]; в «Дневнике писателя» Достоевский приглашал читателя встать рядом с ним на такую точку видения действительности, способную, по его мнению, лучше понять суть происходящего [Достоевский 1972–1990, XXVII, 158].
И в более ранние годы, и в конце жизненного и творческого пути Достоевского экзистенциально поддерживала и ободряла «вера в моих читателей», которые способны отличить правду от лжи и не станут истолковывать необдуманно его высказывания [Достоевский 1972–1990, XXVI, 108]. В конечном итоге Достоевский пришел к необходимости создавать жанр очерка, озаглавленного «К моим читателям». Не будем забывать об ироническом отображении опуса «великого писателя» Кармазинова в романе «Бесы», выполненного в том же жанре; разумеется, он опасался показаться столь же смешным, как и автор кармазиновского «Мерси» [Достоевский 1972–1990, X, 357–371]. Это заставило его начинать свой текст с извинений за задержку выпуска очередного номера: «Прибегаю к чрезвычайному снисхождению моих читателей» [Достоевский 1972–1990, XXV, 121]; «Долгом считаю заявить, что я получил весьма много писем от моих читателей с самым сочувственным выражением их ко мне участия по поводу моего объявления о болезни» [Достоевский 1972–1990, XXV, 125]. Второе обращение к читателю, оформленное в такого рода текст, состоялось, когда Достоевский принял решение приостановить «Дневник писателя» в связи с плохим состоянием здоровья и намерением писать новый роман; решение это сопровождалось «сожалением», оправданным жизненными обстоятельствами [Достоевский 1972–1990, XXVI, 34].
Объявляя о прекращении «Дневника писателя» и терзаясь проблемой неотвеченных вопросов читателей, Достоевский сообщает им, что готов решиться «выдать один выпуск и еще раз поговорить с моими читателями», чтобы ответить на все их вопросы [Достоевский 1972–1990, XXVI, 126]. В этом последнем выпуске «Дневника писателя» за 1880 г. Достоевский еще раз подчеркивает существование особого круга читателей его журнала, воспитанных эстетической коммуникацией: «Единственно имея в виду других, которые нас рассудят, то есть читателей. Для этих других и пишу» [Достоевский 1972–1990, XXVI, 149]. Функционально-коммуникативное отличие «Дневника писателя» от романа хорошо осознавалось Достоевским: журнал – «истолкователь минуты, настоящей минуты, минуты, в которой мы с вами живем», в то время как художественное произведение пишется в контексте вечности – «не под обаянием минуты, а уже относится к ней критически» [Достоевский 1972–1990, XXVII, 148].
Основная проблема и боль Достоевского за Россию, подвигнувшая его к созданию лекарства от этой беды, доктрины почвенничества, – это многочисленные разрывы в общественной жизни, которые он именовал «расколами». Работая над «Дневником писателя», он пометил: «Нет культуры. У нас нет культуры, за двести лет пустое место. Объяснение читателям, что такое культура. Ни науки, ни развития, ни чести, ни лучших людей (14 классов, légion d’honneur). Стукаемся в темном месте головами, какой хотите вопрос – и мы тотчас пропали» [Достоевский 1972–1990, XXVII, 60]; Основанная на органической концепции программа почвенничества была призвана решить проблему создания культуры, основанной на христианских принципах, и вся деятельность Достоевского как формирователя общественного канала связи, основанного на свойствах эстетической коммуникации, за последние двадцать лет его жизни была направленна именно на это, включая, конечно, пять романов, которые были попыткой объяснений необходимости обновления религиозной и культурной жизни страны. Однако услышан он был единицами, что и привело к катастрофе 1917 г.
После огромного успеха «Речи о Пушкине» летом 1880 г. вера Достоевского в возможность дальнейшего почвеннического влияния на русское общество серьезно укрепилась, и он решает вернуться к «Дневнику писателя» с целью, как указывает А.Г. Достоевская, «распространения своих задушевных идей», которыми Федор Михайлович «очень дорожил» [Достоевская 1971, 370]. Общее направление будущих выпусков «Дневника писателя» сам Достоевский определил в его известном письме к К.П. Победоносцеву от 25 июля 1880 г.: «Но это не ответ критикам, а мое profession de foi на всё будущее. Здесь уже высказываюсь окончательно и непокровенно, вещи называю своими именами <...> То, что написано там, для меня роковое» [Достоевский 1972–1990, XXX (1), 204]. После двух лет издания «Дневника писателя» отдельным изданием, завершения пяти романов с идеологическим направлением почвеннического характера Достоевский хорошо знал, «как говорить, каким тоном говорить, и о чем вовсе не говорить» [Достоевский 1972–1990, XXX (1), 214], его литературная прагматика была отточена до совершенства, но смерть отменила ее применение.
Суммируя вышеизложенное, можно сказать, что в творчестве Достоевского обнаруживаются три слоя литературной прагматики, тесно связанные между собой: намерение реализовать свое видение мира в слове, сказать читателю самое существенное о действительности [Баршт 2017, 29–46], а для этого нужно найти язык и формат взаимопонимания и взаимосвязи с читателем, при этом обеспечить себя и свою семью финансовыми средствами, достаточными для поддержания процесса творчества. В состав вопросов, связанных с этой многослойной прагматикой писателя, входят феноменология чтения, история художественной рецепции (рецептивная эстетика), прагматическая теория повествования, вопрос о «работе текста» (П. Рикер), о «моральной рефлексии» (Х.-Р. Яусс) и идея тернарной структуры эстетической коммуникации М.М. Бахтина.
Достоевский отчетливо осознал еще в юности, что смысл чтения заключается в добровольной переделке своей системы ценностей с помощью принятия ценностей иной точки видения мира. Для того чтобы это могло состояться, человек должен быть сам заинтересована в такой операции, т.е. быть неудовлетворенным самим собой. Все герои-философы писателя обладают этим свойством, например, наличная система ценностей либо не увязывается с принятой в обществе (Раскольников, Мышкин и др.), с Божественными законами мироустройства (Версилов, Иван Карамазов и др.). Читатель следит за движением мыслей и поступков персонажа, ищущего ответ на «вековечный» вопрос, который сам Достоевский поставил перед собой как вектор своей жизненной и творческой прагматики, положив его в основание всего написанного им в виде художественных произведений, публицистических очерков и личных писем.
Список литературы О форматах и свойствах нарративной прагматики Ф. М. Достоевского. Статья вторая: письма и публицистика
- Баршт К.А. Литературный дебют Ф.М. Достоевского: творческая история романа "Бедные люди" // Достоевский Ф.М. Бедные люди. М.: Ладомир; Наука, 2015. С. 379-514.
- Баршт К.А. О "реализме в высшем смысле" и символе веры Ф.М. Достоевского // Russica Romana. Rivista internazionale di studi russistici. 2017. Vol. 24. P. 29-46.
- Баршт К.А. Тернарная структура коммуникации: эстетика как метаэтика // Баршт К.А. Достоевский: этимология повествования. СПб.: Нестор История, 2019. С. 405-411.
- Бахтин М.М. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. М.: Русские словари, 2003. 955 с. EDN: UKMGIN
- Волгин И.Л. Редакционный архив "Дневника писателя" // Русская литература. 1974. № 1. C. 150-161.
- Достоевская А.Г. Воспоминания. М.: Художественная литература, 1971. 494 с.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т. Л.: Наука 1972-1990.