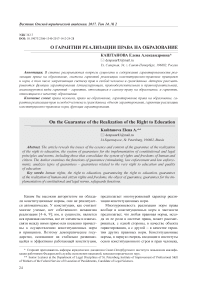О гарантии реализации права на образование
Автор: Каштанова Елена Александровна
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право
Статья в выпуске: 2 (35), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются вопросы сущности и содержания гарантированности реализации права на образование, система гарантий реализации конституционно-правовых принципов и норм, в том числе закрепляющих систему прав и свобод человека и гражданина. Автором рассматриваются функции гарантирования (стимулирующая, правообеспечительная и правоохранительная), анализируются виды гарантий - гарантии, относящиеся к самому праву на образование, и гарантии, относящиеся к качеству образования.
Права человека, право на образование, гарантирование права на образование, гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина, объект гарантирования, гарантии реализации конституционно-правовых норм, функции гарантирования
Короткий адрес: https://sciup.org/14317826
IDR: 14317826 | УДК: 342.7 | DOI: 10.19073/2306-1340-2017-14-2-24-28
Текст научной статьи О гарантии реализации права на образование
Каким бы высоким авторитетом ни обладали конституционные нормы, они не реализуются автоматически. У конституции, как считают многие ученые, нет собственного механизма реализации [4–6, 9]; им, в сущности, является вся правовая система, все ее элементы и взаимосвязи между ними прямо или косвенно причастны к осуществлению конституционных норм и принципов. Поэтому демократическое государство, основанное на стабильно развивающейся и эффективно работающей конституции, предполагает многоуровневый характер реализации конституционных норм.
Многоуровневость реализации норм права вообще и конституционных норм в частности предполагает, что любая правовая норма, исходя из ее роли в системе права, может рассматриваться, с одной стороны, в качестве объекта гарантирования, а с другой – в качестве гарантии других правовых норм. Конституционные нормы, в первую очередь входящие в институты основ конституционного строя и прав человека, обладают не только высшей юридической силой, но и особой социальной значимостью. В силу этого они рассматриваются в качестве объектов гарантирования, за ними должны стоять предусмотренные правом гарантии. При этом следует иметь в виду, что основополагающие принципы конституционного строя, признание человека, его прав и свобод высшей ценностью занимают одно из первых мест в иерархии норм права, следовательно, и гарантии их реализации занимают в проблеме гарантирования особое место: выступая гарантиями высшей юридической силы, они, отмечает Н. А. Боброва, представляют собой нормативные указания на имеющиеся в обществе экономические, политические, идеологические предпосылки и условия, на неуклонно осуществляемые меры организационного характера и постоянно совершенствующиеся правовые средства [1, с. 51].
Гарантии реализации конституционно-правовых норм есть «юридически значимые и организационно-оформленные средства реализации предписаний, содержащихся в нормах конституционного права, способы достижения целей этих норм, организационно-правовые условия перевода регулирующих возможностей конституционного права в действительность, в фактическое поведение субъектов конституционно-правовых отношений» [7, с. 130–131]. «Реализация конституционных положений, – отмечал В. С. Ос-новин, – должна быть многофункциональной и многоуровневой» [8, с. 16]. Т. Д. Зражевская выделяет три функции гарантирования, которые в совокупности выступают системой: стимулирующую (стимулирование всех форм реализации конституционного законодательства в целом и активности правоприменительных субъектов); правообеспечительную (непосредственное обеспечение всех условий процесса реализации конкретного конституционного закона); правоохранительную (охрана, защита конституционного законодательства) [4, с. 155].
Представляется, что помимо перечисленных гарантии могут выполнять и превентивные функции, устанавливая основания юридической ответственности за нарушения конституционных предписаний. По своей юридической природе правоохранительная и превентивная функции связаны с процессуальными конституционными нормами-гарантиями. В качестве примера можно привести предписание, содержащееся в п. 4 ст. 3 Конституции Российской Федерации, где говорится, что захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону. Данное положение нельзя рассматривать в качестве санкции конституционноправовой нормы, оно направлено на обеспечение ее реальности, социальной исполнимости.
Применительно к правам человека на процессуальный характер реализующих их норм обратил внимание Н. С. Бондарь, предложивший отойти от традиционной трехчленной систематизации всех прав и свобод на личные (гражданские), социальные и культурные, вычленяя конституционно-процессуальные права-гарантии, сконцентрированные в ст.ст. 45–54 Конституции Российской Федерации.
В литературе высказана точка зрения, что средства реализации предписаний, содержащихся в нормах конституционного права, могут выполнять соответствующие функции при условии, если содержащиеся в текущем законодательстве правовые предписания не противоречат конституционным принципам и нормам [11, с. 90]. Но правовые предписания, содержащиеся в законодательстве, характеризуя внутреннее устройство системы права, являются лишь частью национальной правовой системы, которая представляет собой «совокупность внутренне согласованных, взаимосвязанных, социально однородных юридических средств, методов, процедур, с помощью которых публичная политическая власть оказывает регулятивно-ор-ганизующее и стабилизирующее воздействие на общественные отношения, реализует меры юридической ответственности» [10, с. 240].
Поэтому исходный тезис должен звучать несколько иначе, чем это представляется Н. А. Ткачевой: средства реализации предписаний, содержащихся в нормах конституционного права, могут выполнять соответствующие функции при условии, если они находят адекватное отражение в национальной правовой системе. Иными словами, конституционные провозглашения должны дополняться правовыми предписаниями, содержащимися в источниках позитивного права, а также соответствующим механизмом правового воздействия, юридической практикой, правовой идеологией, сформировавшейся на юрисдикционной территории данного государства. Только в этом случае можно говорить о создании системы гарантирования реализации конституционных принципов и норм, в том числе закрепляющих систему прав и свобод человека и гражданина.
Термин «гарантирование» применительно к государственно-правовой проблематике имеет несколько смысловых значений, выступая по отношению к отдельным гарантиям как цель, как процесс, как результат. В первом и последнем случаях представляется удачным термин «гарантированность» как исходный и конечный пункт процесса гарантирования всей деятельности по гарантированию, которая отталкивается от определенного объективно заданного уровня гарантированности, от уже имеющихся результатов по гарантированию, чтобы достичь реализации каждой нормы в конкретном случае, то есть цели фактически высокого уровня гарантированности [1].
В юридической науке вопрос гарантий всегда рассматривался применительно либо к отдельным конституционно-правовым институтам, либо к отдельным нормативным актам.
Закон Российской Федерации «Об образовании» не содержит специальной нормы, в которой бы приводилось легальное определение понятия «гарантии». Однако среди задач законодательства Российской Федерации в области образования предусмотрено создание правовых гарантий для свободного функционирования и развития системы образования Российской Федерации (п. 3 ст. 4), а ст. 5 содержит развернутый перечень государственных гарантий прав граждан Российской Федерации в области образования.
Гарантируется, в частности, возможность получения образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения, наличия судимости; недопустимость ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам пола, возраста, состояния здоровья, наличия судимости вне ограничений, которые могут быть установлены только законом; создание системы образования и соответствующих социально-экономических условий для получения образования; общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и начального профессионального образования и т. д. с точки зрения воспроизведения положений ст. 43 Конституции Российской Федерации.
В данных случаях гарантиями выступают конкретные правомочия, обеспечивающие до- стижение определенного социального результата, которые с полным основанием можно рассматривать как некие расширенные по сравнению с Конституцией Российской Федерации нормы-провозглашения. Гарантированность же конституционных установлений, в том числе в области прав и свобод, в частности права на образование, обеспечивается иными средствами, как правило, рассосредоточенными по различным законодательным и подзаконным актам федерального и регионального уровней.
Под гарантированностью как обеспечением конституционных прав и свобод Н. В. Витрук еще в советское время понимал «систему общих условий и специальных (юридических) средств, которые обеспечивают их правомерную реализацию, а в необходимых случаях и охрану» [2, с. 195–196]. Этот подход в принципе сохранился и в настоящее время [3], причем «если под общими гарантиями понимается совокупность экономических, политических и других условий, делающих права реальными, то юридические гарантии предполагают закрепление прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в нормах права, обеспечение, охрану и защиту их всей системой правоохранительной деятельности государства, комплексом структур внутригосударственного и наднационального уровня» [12, с. 27].
Не возражая против такой классификации гарантий, тем более что их теоретическое обоснование содержится в значительном числе работ ведущих отечественных ученых-конституционалистов, полагаем целесообразным обратить внимание на следующее.
-
1. Гарантии (как общие условия или специальные юридические средства) реализации прав и свобод лишь на уровне теоретического обобщения можно рассматривать как нечто цельное, раз и навсегда данную совокупность государственных мер по осуществлению индивидуумами своих правомерных притязаний. На самом деле и здесь следует поддержать точку зрения В. И. Крусса: применительно к одним правам следует говорить о гарантиях как форме помощи (государственной, муниципальной), к другим – как о стимулах в пользовании своими конституционными правами.
-
2. Действующий закон Российской Федерации «Об образовании» – один из «долгожителей» российской правовой системы, он принят 10 июля 1992 г., т. е. по времени принятия закон
-
3. Гарантированы могут быть лишь реальные нормы, которые правильно отражают объективные закономерности общественного развития, соответствуют специфическим обстоятельствам времени и места, согласуются с системой права. Принцип реальности означает актуальность самих возможностей, заложенных в праве, их опору на фактические предпосылки и условия, реальность их перехода в действительность с помощью организационно-правовых гарантий. В силу этого уже отмечавшаяся нами попытка выделить два вида гарантий – гарантии, относящиеся к самому праву на образование, и гарантии, относя-
- щиеся к качеству образования, является своего рода основой для построения разветвленной системы гарантий, относящихся к различным этапам и компонентам организации системы образования и образовательного процесса.
доконституционный. Многочисленные дополнения и изменения, которые были внесены в этот закон, привели его содержание в части закрепления гарантий реализации права на образование в полное соответствие с Конституцией Российской Федерации, в ряде случаев расширив тот гарантирующий перечень, который содержит в себе ст. 43 Основного закона. Этот процесс – процесс трансформации доконституционного законодательного акта в законодательный акт, воспроизводящий конституционную модель права на высшее образование, можно оценивать как процесс конституционализации правового порядка в сфере образования.
Суммируя сказанное, необходимо подчеркнуть, что гарантии реализации права на образование, в том числе высшее образование, должны базироваться на четких инструментах оценки проблемных зон осуществления образования, обеспечивать, во-первых, объективную оценку образовательной ситуации и необходимость гарантирующего вмешательства в ее решение со стороны общества и государства; во-вторых, социальную исполнимость вытекающих из конституционных предписаний конкретных гарантий развития образования; в-третьих, позитивное развитие государственных и общественных институтов, обеспечивающих функционирование образовательной сферы. Если гарантии представляют собой некий статичный набор необходимых для этого средств и инструментов, то гарантированность выступает как постоянный динамический процесс их обновления, совершенствования и избирательного задействования в интересах решения текущих и перспективных задач развития российской системы образования.
Список литературы О гарантии реализации права на образование
- Боброва Н. А. Гарантии реализации государственно-правовых норм: . Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. 161 с.
- Витрук Н. В. Социально-правовой механизм реализации конституционных прав и свобод граждан//Конституционный статус личности в СССР/редкол.: Н. В. Витрук, В. А. Масленников, Б. Н. Топорнин. М.: Юрид. лит., 1980. С. 195-209.
- Гасанов К. К. Конституционный механизм защиты основных прав человека: моногр. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 431 с.
- Зражевская Т. Д. Реализация конституционного законодательства. Проблемы теории и практики: дис.. д-ра юрид. наук. Воронеж, 1999. 375 с.
- Кутафин О. Е. Предмет конституционного права. М.: Юристь, 2001. 444 с.
- Лучин В. О. Реализация конституционных норм: общее и особенное//Конституционная реформа в СССР: актуальные проблемы: /АН СССР, Ин-т гос-ва и права; . М.: ИГПАН, 1990.
- Орзих М. Ф. Юридические гарантии, средства и методы применения правовых норм//Юридические гарантии правильного применения советских правовых норм и укрепление социалистической законности: тез. докл. и сообщений всесоюз. науч. конф. Киев, 1970.
- Основин В. С. О некоторых методологических вопросах реализации конституционных норм//Теоретические вопросы реализации советской Конституции/Ин-т гос-ва и права Акад. наук СССР; отв. ред. Б. Н. Топорнин. М., 1982.
- Пархоменко А. Г. Идеи российского конституционализма и их реализация в отечественном конституционном (государственном) праве: дис.. д-ра юрид. наук. М., 1999. 299 с.
- Ромашов Р. А. Теория государства и права. СПб.: Питер, 2006. 254 с.
- Ткачева Н. А. Проблемы гарантированности основ конституционного строя: дис.. канд. юрид. наук. Ставрополь, 2004. 179 с.
- Хазов Е. Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в России: теоретические основы и проблемы реализации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2011. 63 с.