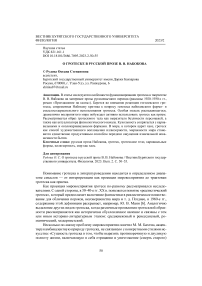О гротеске в русской прозе В. В. Набокова
Автор: Рудова Оксана Степановна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются особенности функционирования гротеска в творчестве В. В. Набокова на материале прозы русскоязычного периода (рассказы 1920-1930-х гг., роман «Приглашение на казнь»). Берется во внимание рецепция гоголевского гротеска, современная Набокову критика к вопросу генезиса набоковского формо- и смыслосодержательного использования гротеска. Особая модель распадающегося, драматично воспринятого мира побуждает активно использовать гротеск как прием. Рассматривается образ гротескного тела как выразителя безликости персонажей, а также как актуализатора физиологического начала. Кукольность сопрягается с карнавальными и околокарнавальными формами. В мире, в котором царит хаос, гротеск как способ художественного воплощения иллюзорности, миражности мира становится единственно продуктивным способом передачи ощущения изначальной искаженности бытия.
Русская проза набокова, гротеск, гротескное тело, карнавальные формы, иллюзорность, мир как хаос
Короткий адрес: https://sciup.org/148326728
IDR: 148326728 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.18101/2686-7095-2023-2-50-55
Текст научной статьи О гротеске в русской прозе В. В. Набокова
Рудова О. С. О гротеске в русской прозе В. В. Набокова // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2023. Вып. 2. С. 50‒55.
Понимание гротеска в литературоведении находится в определенном диапазоне смыслов — от интерпретации как проекции мировосприятия до трактовки гротеска как приема.
Как проекция мировосприятия гротеск по-разному рассматривался исследователями. С одной стороны, в 30‒40-е гг. ХХ в. появляется понятие «реалистический гротеск», который предполагает включение фантастики в реалистическое повествование для обличения пороков, несовершенства мира и т. д. Позднее, в 1960-е гг., содержание этой дефиниции раскрывает, например, Ю. В. Манн [6]. Аналогично выделение других видов гротеска, когда различные проявления гротескной образности рассматриваются как исторически обусловленное явление и связаны с тем или иным историко-литературным этапом: средневековый и ренессансный, романтический, модернистский.
Несколько по-иному проблему мировосприятия осветил М. М. Бахтин, акцентируя амбивалентную природу гротеска, не связанную с конкретными стилями искусства: «Сущность гротеска в том, чтобы выразить противоречивую и двуликую полноту жизни, включающую в себя отрицание и уничтожение (смерть старого)
как необходимый момент, неотделимый от утверждения, т. е. рождения нового и лучшего» [1, с. 74].
Как прием, как средство изображения рассматривает гротеск А. В. Кеба: для него важнейшая черта гротескного типа образности — «ориентация на тотальное превращение, сочетание несочетаемого, результатом чего оказывается рождение странно-необычных, химерических художественных форм» [4, с. 102]. Такой гротеск дает о себе знать на разных стилевых уровнях произведения — в сюжете, деталях предметной изобразительности, языке.
Что же важно для понимания гротеска у В. В. Набокова? Думается, гротеск реализован как на уровне приема, так и на мировоззренческом уровне, что позволяет трактовать его довольно широко как формо- и смыслообразующее звено для целого ряда его произведений.
Уже эмигрантская критика первой трети ХХ в. в оценке набоковского гротеска видела его связь с идеями Н. В. Гоголя. В. Ходасевич, например, возвел фантастическое как гротесковое в романе «Приглашение на казнь» (1935) к повести Н. В. Гоголя «Нос» [13, с. 139]. О гротескном изображении «абсурдной действительности» у Набокова как своеобразного продолжателя Гоголя пишут современные исследователи [12]. «В основе представлений о жизни как о фантасмагории лежит мысль о драматизме бытия, о нарушенной изначальной гармонии», об абсурде мира [5, с. 40]. Сам Набоков, когда позднее писал о классике в своей книге «Николай Гоголь» (1944), вербализовал идею гротеска в оценке гоголевской повести «Шинель» [10].
На наш взгляд, для В. В. Набокова оказалась важной гоголевская идея внутреннего противоречия в человеке, его разъединенности1. Набоков показывает несоответствие «внешнего» и «внутреннего» в человеке через акцентирование иллюзорности в облике героя: первостепенное внимание уделяется не тому, каким объективно может быть представлен герой, но как он воспринимается, прежде всего другими персонажами. Акцентирование гротескного абсурда приводит у Набокова в частности к идее зеркальности и, более того, к искаженной зеркальности, когда важно не столько отражение, сколько искажение этого отражения. Гротеск становится приемом, реализующим это искажение, то есть гротеск становится главным инструментом создания типа художественной реальности, в которой диссонанс идеала и действительности пределен.
В. В. Набоков обращается к гротеску и в 1920-е, и в 1930-е годы. Рассмотрим такую форму использования приема гротеска, как выражение безликости, серости персонажей. Подобная особенность в изображении человека и общества отчетливо прослеживается и в рассказах В. В. Набокова, и в романе «Приглашение на казнь», по-своему эталонном с точки зрения гротеска произведении. Безликость сослуживцев протагониста рассказа «Облако, озеро, башня» (1937) Василия Ивановича воплощена в образе коллективного гротескного тела: «все они сливались постепенно, срастаясь, образуя одно сборное, мягкое, многорукое существо, от которого некуда было деваться» [9, с. 432]. Акцентирование частей человеческого тела, деталей костюма будет подчеркивать растворение лиц жителей города в романе «Приглашение на казнь»: «Он видел их напряженные лбы, он видел яркоцветные панталоны щеголей, ручные зеркала и переливчатые шали щеголих, — но лица были неясны» [9, с. 11]. Там же используется гротескное слияние-разъединение тел и одежды вроде бы разных персонажей — тюремщика Родиона и директора тюрьмы Родрига Ивановича: «Когда он взглянул опять, директор стоял к нему спиной посредине камеры. На стуле все еще валялись кожаный фартук и рыжая борода, оставленные, по-видимому, Родионом» [9, с. 39].
Гротескное тело может означать и гипертрофию собственно телесного, физиологического начала. Набоковская характеристика персонажей часто сконцентрирована на описании «телесного низа». Таково описание соседа по купе из рассказа «Пассажир» (1927): «Сквозь трико длинного подштанника неприятно торчали волоски. Вообще нога была препротивная» [7, с. 364]; Пильграм, протагонист одноименного рассказа 1930 г., описывается как «сорокапятилетний, тяжелый, грубый человек, питавшийся гороховой колбасой да вареным картофелем» [7, с. 400], а спутницы Василия Ивановича в рассказе «Облако, озеро, башня» как «две девицы с огромными ртами, задастые и непоседливые» [9, с. 421]. Легко заметить, что концентрация на непривлекательном, чрезмерном, отталкивающем изображении телесного у Набокова по-гоголевски тесно связана с редукцией героя до одной детали: вместо человека описание его части тела, которая словно способна все выразить.
Подобные деформации тела, физиологические экзерсисы, неопределенность и расплывчатость его форм, умаление внутреннего содержания превращают героев в кукол, а кукольность находится в связке с различного рода карнавальными действиями, карнавальными и околокарнавальными видами зрелищного искусства. В рассказе «Картофельный эльф» (1924) акцент сделан на приеме фокуса как цирковом трюке фокусника Шока и как условном повествовательном приеме. Анализируя литературные источники рассказа, Е. Сошкин указывает на то, что «Фокус с самоубийством, показанный автором под маской Шока, зеркально симметричен фокусу с деторождением, который проделывает Шок, скрываясь под маской автора. Вся логика событий в рассказе указывает на то, что рождение сына — иллюзия…» [11, с. 226]. Рассказ эксплицитного повествователя «Весны в Фи-альте» (1936) то и дело обрывается замечаниями об изображениях на афише цирка, словно в какой-то момент действие будет перемещено на цирковую арену. Апофеозом писательского внимания к зрелищным видам искусства является роман «Приглашение на казнь», фабула которого по сути является сценарием театрализованного представления, в которое Цинциннат Ц. вовлечен героями-марионетками, или же сам автор в развязке романа позволил «воочию увидеть созданность, сделанность, кукольность мира, претендовавшего на то, что имеет свои законы существования» [2, с. 32].
Включение различных карнавальных элементов в повествование позволяет В. В. Набокову поставить реальность под сомнение, указать на альтернативные варианты, вообще на вариативность. Эта направленность на сценические виды искусства, используемая как элемент гротескной образности, напрямую отражает концепцию художественного мира В. В. Набокова, в которой достаточно важна поэтика миражности, иллюзорности, невозможность представления мира и человека как явлений устоявшихся, понятных и четко очерченных.
Очень часто идея гротескного распада, разъединения человека на фрагменты связана с темой смерти, которая мыслится как своеобразное продолжение жизни, ее вариант, «наспех склеенное подобие жизни, меблированные комнаты небытия» [8, с. 367]. Сам момент смерти уподобляется шагу из одного пространства в другое, из реального в потустороннее, а смерть может карикатурно возвышаться или умаляться, представая в образе дохлой кошки. В рассказе «Адмиралтейская игла» (1933) смерть кошки оказывается единственным воспоминанием о гибели страны в революционном пожаре, а в «Приглашении на казнь» кошка издыхает как будто от визита родственников.
Еще более гротесково показана смерть в рассказе «Катастрофа» (1924), когда личность и тело Марка были разъяты. После эффекта пронзания тела «толстой молнией» на лоснящемся асфальте видны две фигуры одного героя — стоящего Марка Штандфусса и идущего наискось через улицу Марка Штандфусса. Трансформация тела героя через смерть является попыткой бегства из пространства и обстоятельств, в которых он принужден находиться.
Отметим также, что в гротескном изображении человека и окружающих его предметов в прозе В. В. Набокова присутствует, подобно гоголевскому, смешение антропоморфного, зооморфного и предметного, гротескная экспансия тела. Достаточно часто это телесные характеристики, приобретающие характер номинации: герой, «загорелый до цвета петушиного гребня» [9, с. 421], может быть назван «петухом-предводителем»; или полуописание-полуметафора — «ракообразная» рука тюремщика [9, с. 26].
Обратим внимание, что экспансия животного мира в мир человеческий может иметь параллель в экспансии живого в неживой мир. «Как будто неодушевленная материя начала путь к жизни, но остановилась. Или, наоборот, живое начинает свой путь к вещному» [2, с. 28]. В рассказе «Уста к устам» (1929) обращается внимание на «толстое слоистое тело книги», пакет с экземплярами книги представлен как «розовое, холодное, пухлое» [9, с. 435]. Дом, в котором мечтает поселиться Василий Иванович, мыслится им как «пегий, двухэтажный, с прищуренным окном под выпуклым черепичным веком» [9, с. 425]. У дома Цинцинната «складка на переносице», «горбоносый балкон» [9, с. 10]. Подобные метаморфозы, связанные с одушевлением неживого, имеют место тогда, когда живые существа, окружающие протагониста, оказываются бездуховными, духовно умерщвленными, плотскими, существующими лишь физиологически.
Гротескной, чуждой, неблагополучной человеку средой мыслится город. Эмигрант Ганин («Машенька», 1926), живущий в Берлине, мечтает об одном: «Уехать бы!» [7, с. 41]. Город для Цинцинната является местом, где царят нелепые законы, подчиняющие себе людей-марионеток: все в нем «было всегда совершенно мертво и ужасно» [9, с. 42]. Создается такая модель художественного мира, в котором все условно, иллюзорно, человек и окружающий его материальный мир дробятся на варианты, среди которых нет возможности отыскать истинный, потому что исследуемый объект в конечном счете не равен себе.
В целом обращение В. В. Набокова к гротеску обусловлено тем, чтобы с его помощью разрушить формальные видимости жизни, высветить зазор между сущностью общественного бытия и его «осязаемыми реалиями». В мире, в котором царит хаос, гротеск становится единственно продуктивным способом передачи ощущения изначальной искаженности бытия.
Список литературы О гротеске в русской прозе В. В. Набокова
- Бахтин. М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Москва: Художественная литература, 1965. 525 с. Текст: непосредственный.
- Башкеева В. В. Театральный код в романе В. Набокова «Приглашение на казнь» // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2019. № 1. С. 27‒33. Текст: непосредственный.
- Бочаров С. Г. Вокруг «Носа» // Филологические сюжеты. Москва: Языки славянских культур, 2007. С. 174‒198. Текст: непосредственный.
- Кеба А. В. Типология гротескных форм в европейской литературе 1920‒1930-х гг. // Вопросы русской литературы. 2006. № 12. C. 99‒110. Текст: непосредственный.
- Куксина Е. М. «UltimaTrule» В. В. Набокова и «Записки сумасшедшего» Н. В. Гоголя // Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 2. В. Набоков в контексте русской литературы XX века. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000. С. 38‒48. Текст: непосредственный.
- Манн Ю. В. О гротеске в литературе. Москва: Юрайт, 2021. 145 с. Текст: непосредственный.
- Набоков В. В. Собрание сочинений: в 4 томах / составитель В. В. Ерофеев. Москва, 1990. Т. 1. 414 с. Текст: непосредственный.
- Набоков В. В. Собрание сочинений: в 4 томах / составитель В. В. Ерофеев. Москва, 1990. Т. 2. 446 с. Текст: непосредственный.
- Набоков В. В. Собрание сочинений: в 4 томах / составитель В. В. Ерофеев. Москва, 1990. Т. 4. 476 с. Текст: непосредственный.
- Набоков В. В. Николай Гоголь. URL: http://nabokov-lit.ru/nabokov/kritika-nabokova/nikolaj-gogol/apofeoz-lichiny.htm (дата обращения: 20.03.2023). Текст: электронный.
- Сошкин Е. К источникам рассказа Набокова «Картофельный эльф» // Новое литературное обозрение. 2015. № 5. С. 217‒229. Текст: непосредственный.
- Таганова Н. Л. «Приглашение на казнь» В. В. Набокова и Н. В. Гоголь: объединенность абсурдом // Научный поиск. 2011. № 2. С. 45‒48. Текст: непосредственный.
- Ходасевич В. Г. Рецензия на роман «Приглашение на казнь» // Классик без ретуши / под общей редакцией И. Г. Мельникова. Москва: Новое литературное обозрение, 2000. С. 138–140. Текст: непосредственный.