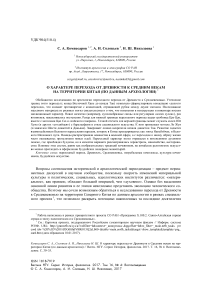О характере перехода от древности к средним векам на территории Китая (по данным археологии)
Автор: Комиссаров Сергей Александрович, Соловьев Александр Иванович, Николаева Насима Шайхетдиновна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Археология Восточной Азии
Статья в выпуске: 4 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Обобщаются исследования по археологии переходного периода от Древности к Средневековью. Уточнение границ этого периода (с конца Восточной Хань до начала Тан) позволило сформулировать концепцию «долгого перехода», что снимает противоречие с концепцией, отрицающей рубеж между двумя эпохами. Исследование массового материала из рядовых могил свидетельствует о том, что изменения в конструкции и инвентаре носили эволюционный характер. Новое качество (например, куполообразные своды или регулярная «аллея духов»), раз возникнув, накапливалось постепенно. Репер для нижней границы переходного периода задает гробница Цао Цао, вместе с могилами Цао Сю и «вэйского генерала». Точкой отсчета для верхней границы может служить склеп Юй Хуна (и других «согдийцев») с барельефами в стиле сасанидского искусства. К ним примыкает могила Ло Жуя (и мавзолеи Шести династий в Даньяне). Завершают линию некрополи начала династии Тан. Развитие задается взаимодействием Великого переселения народов, которое в Китае проецировалось как эпоха Наньбэйчао, и Великого Шелкового пути. Номады распространяли новшества в военной сфере, а с переходом к иному образу жизни часто оказывались прозелитами новых идей. Переходный характер эпохи отражался в интенсивном духовном поиске, где преобладал буддизм, но в качестве варианта рассматривались зороастризм, манихейство, несторианство. Влияние этих систем, равно как изобразительных традиций кочевников, на китайское религиозное искусство можно проследить в оформлении буддийских пещерных монастырей.
Переходный период, древность, средневековье, погребальные комплексы, культура кочевников, буддийское искусство
Короткий адрес: https://sciup.org/147219762
IDR: 147219762 | УДК: 904(510.4)
Текст научной статьи О характере перехода от древности к средним векам на территории Китая (по данным археологии)
Вопросы соотношения исторической и археологической периодизации – предмет перманентных дискуссий в научном сообществе, поскольку скорость изменений материальной культуры и политических, социальных, идеологических институтов различается: «материальное», как правило, обладает большей инерцией, чем «духовное». Однако без выделения основной линии развития и ее этапов невозможно представить эволюцию человеческого сообщества. Поэтому мы сочли возможным обратиться к исследованию перехода от Древности к Средневековью на территории Северного Китая по данным археологии в рамках специального проекта 1, что позволило раскрыть потенциал накопленных за последние десятилетия
-
* Работа выполнена в рамках приоритетного проекта СО РАН «Программа X.100.2. Саяно-Алтайская горная страна в эпоху палеометалла и в Средневековье».
материалов для изучения этнокультурных процессов на территории континента «от стен Царьграда до Великой Китайской стены».
В синологической литературе идет спор о терминах, обозначающих существенные этапы в истории Китая, их социально-экономического, политического и культурного наполнения, а также корреляции с европейской хронологией. Одна из самых авторитетных российских исследовательниц эпохи Суй-Тан М. Е. Кравцова [2010] считает, что злоупотребление термином «средневековый Китай» или «китайское средневековье» в отечественной науке «крайне нежелательно», с чем нам трудно полностью согласиться.
Дискуссионность хронологии усугубляется неразработанностью самого понятия «переходный период» 2 между Древностью и Средневековьем для археологии Восточной Евразии. Перспективные юго-восточные параллели для российских исследователей нередко ограничиваются слабо документированными картинками из китайских археологических изданий. Однако без привлечения материалов Северного Китая решение основного спектра проблем переходного периода остается ущербным. Практически в симметричной позиции оказываются китайские археологи, из круга внимания которых выпадает не менее значительный пласт сибирских материалов. Только совокупный подход, обращенный к археологическим и историческим материалам Китая, с одной стороны, и Сибири, с другой, может привести к верному прочтению исторического прошлого этого огромного региона.
Чтобы определить основную линию развития погребальной архитектуры, была рассмотрена серия погребений заключительного периода Древности (конец династии Восточная Хань – самое начало Троецарствия) и серия классического периода Средневековья (династия Тан). Установлено, что погребения Поздней Хань от более ранних захоронений отличает постепенное исчезновение могил с деревянным саркофагом и появление склепов (часто многокамерных) со стенами из кирпича или камня, с арочными и куполообразными сводами. Погребения периода Троецарствия похожи на позднеханьские, только меньше по размерам, возможно из-за обнищания населения в ходе непрерывных войн, сказавшегося и на благосостоянии элиты [Варенов и др., 2016]. Если от начальной стадии перейти к заключительной и тем самым четко задать хронологические рамки исследования, то здесь роль финального репера придется на 18 мавзолеев танских императоров, из которых раскопана только усыпальница Ли Сюаня (ум. 888). Материалы надмогильных строений представляют собой образцы не только собственно китайской культуры, но и кочевого населения Северного Китая. Находки последних лет свидетельствуют о влиянии китайской инженерно-технической мысли на формирование комплекса вооружения (прежде всего, металлического доспеха) номадов. Прослеживается и обратный процесс – отдельные элементы погребальной практики кочевых народов включаются в состав традиционного китайского заупокойного обряда и становятся его неотъемлемой частью.
С учетом полученных данных мы сочли возможным принять более раннюю дату краха Ханьской империи, ознаменовавшего окончание Древности. Это не формальный 220 г., а период с 189 по 196 г., когда все имперские институты подверглись изрядной деформации (см.: [Борисов и др., 2014]). Включение в программу исследований дополнительного периода в 30–35 лет (жизнь одного поколения) расширило источниковую базу, хотя, разумеется, не приходится преувеличивать значение точной, до года, даты для хронологии макроэтапов в истории страны. Были увеличены и верхние лимиты переходного периода, куда естественным образом (на протяжении жизни конкретных персон) вошло время династии Суй и начала Тан. Такая концепция «удлиненного перехода» отчасти снимает противоречие с бытующим в историографии подходом, отрицающим значимый рубеж между Древностью и Средневековьем. Сам же переходный период обретает устойчивые границы «от империи до империи», то есть от древней империи Хань до устроенной на новых (а отчасти возрожденных старых) принципах империи Тан 3.
Расширение временных лимитов позволило включить в исследование новые объекты на верхнем рубеже переходного периода. Так, изучение склепа Юй Хуна (ум. 592) с мраморными барельефами позволило проследить феномен средневекового мультикультурализма, актуального для Китая в период IV–VII вв. В данном случае наблюдается наложение иранского (зороастрийско-манихейского) пласта на китайскую цивилизационную основу, при возможном влиянии иных традиций (сяньбэйско-монгольских, тибетских и т. д.) [Комиссаров и др., 2015]. Аналогичные находки представлены на некоторых других памятниках Северного Китая переходного периода.
Основным содержанием такого перехода стали события Великого переселения народов, которое в Китае проецировалось как эпоха Северных и Южных династий (Наньбэйчао). Соответственно, специального изучения требует кочевнический фактор, в том числе в ретроспективном плане. Необходимость расширения базы исследований определяется запутанным состоянием набора этнонимов в китайских летописях и их не менее сложным соотношением с политонимами, а и тех и других – с археологическими материалам. Например, остается актуальной задача выделения памятников культуры жужаней, которые позже объявились в Европе под именем аваров. Несмотря на свою консервативность, а, возможно, и благодаря ей, кочевники выступали естественными культуртрегерами, разносившими многочисленные инновации (в военной, бытовой, технологической и отчасти идеологической сферах) по ойкумене. При переходе на оседлость и смене образа жизни бывшие номады часто оказывались прозелитами новых ценностей, что прослеживается, например, в деятельности тобаской династии Северная Вэй, сыгравшей выдающуюся роль в распространении буддизма в Китае. При этом они вносили изрядную долю специфики в стилистику изображений в буддийском искусстве, что прослеживается, например, в росписях и скульптурах Юньгана и некоторых других храмовых комплексов.
Важным инструментом, обеспечивавшим функционирование культурных коммуникаций в масштабах континента, был Великий Шелковый путь. В межимперский период он функционировал с перебоями, но именно потому, что возникавшие эфемерные династии осознавали его важность и ожесточенно боролись за контроль над товарно-денежными потоками, прежде всего, на стратегическом участке: Ганьсуском коридоре. Причем обмен по главной трансконтинентальной магистрали никогда не прекращался, о чем свидетельствуют богатые находки на памятниках раннего Средневековья в оазисах Синьцзяна (исторического Западного края) – таких как Ния, Астана, Куча, Цзяохэ и др.
Как уже отмечалось, сопоставительное изучение источников наиболее эффективно при использовании массовых материалов, к каковым принадлежит коллекция деревянных и глиняных погребальных фигурок всадников и лошадей, найденных при раскопках могильника Астана (в Турфане). Все они относятся к одному продолжительному периоду (соответствует династии Восточная Цзинь и началу династии Тан, примерно конец IV – вторая половина VII в.). Большую часть «всадников Астаны» составляют фигурки с детальным воспроизведением черт лица, особенностей одежды и панцирного вооружения. Можно уверенно говорить о преобладании европеоидов среди этих персонажей. В этнокультурном плане они относятся к одному из тюркских народов, владевших панцирной конницей, хотя, возможно, заимствовавших идею тяжелой кавалерии у соседних иранцев. Вероятно, вся «погребальная кавалькада» изображала «бригаду» пришлых служилых, получавших свою долю от потока богатств, текущих по Великому Шелковому пути в государства Западного края.
Что касается высокоинформативных элитных захоронений Китая эпохи поздней Древности – раннего Средневековья, то выяснилось, что к изученным ранее памятникам можно присовокупить несколько аналогичных комплексов. Так, к могиле Цао Цао (ум. 220) добавились материалы из захоронений Цао Сю (ум. 228) и «вэйского генерала» (ум. в 220-х) 4, к могиле Ло Жуя (ум. 575 г.) – мавзолеи правителей эпохи Шести династий, к могилам Юй Хуна и Ань Цзя (ум. 579) – захоронения Кан Е (ум. 571) и Ши Цзюня (ум. 579). Таким образом, на хронологическом отрезке, соответствующем переходному периоду, фиксируются хорошо документированные блоки памятников, развитие которых в конечном счете реализуется в создании аристократических погребальных комплексов династии Тан.
Резких изменений в конструкции и оформлении могил между периодами Восточная Хань и Троецарствие (и далее – вплоть до эпохи Наньбэйчао) не выявлено, накопление нового качества шло постепенно. К новым элементам можно отнести, например, сооружение «экрана» от злых духов, отмеченное в могиле Цао Сю. Увеличивается число камер, которые в обязательном порядке соединяются коридорами–переходами. Многие изменения носят не качественный, а количественный характер. Так, арочные и куполообразные своды, появившиеся в период Восточной Хань, получают массовое распространение и окончательно закрепляются в период Троецарствия и империи Цзинь. То же можно сказать о ведущей к могиле «аллее духов» (шэньдао), фрагменты которой возникают в ханьское время, но окончательно складываются в единый комплекс в период Шести династий, представленный, например, в составе императорских мавзолеев близ г. Даньяна (пров. Цзянсу).
Особую группу составляют так называемые согдийские могилы, хотя в них могли быть захоронены и представители иных этносов, имевших культурные связи с Согдианой и Ираном. Конструктивно их погребения сочетали черты как китайские (многокамерная могильная яма с дромосом и проходом, выложенная кирпичом), так и иранские (саркофаг из мраморных плит с барельефами или рисунками). Расшифровка сюжетов выявила их тесную связь с западными религиями: зороастризмом, манихейством и несторианством. Можно видеть, что в ситуации напряженного духовного поиска государство до поры не препятствовало такому окормлению даже своих высших чиновников.
При этом во всех сферах культуры возрастает приоритет буддизма. Самым первым буддийским храмом считается Ваньняньсы в горах Эмэй (пров. Сычуань), который упоминается в письменных источниках за 63 г. (на год раньше, чем храм-монастырь Баймасы в Лояне). В III в. там создается храм, посвященный бодхисаттве Самантабхадре. Эти постройки в стиле ханьской архитектуры отражают первую волну проникновения буддизма. Во II в. создаются первые пещерные монастыри, например Кумтура в Синьцзяне. Подлинный расцвет Учения Будды связан с его освоением в V–VI вв. кочевыми народами, которые несли новую веру в самые отдаленные уголки созданных ими государств. Именно при содействии правителей Северной Вэй, Поздней Цзинь, Северной Чжоу и других «северных династов» строятся пещерные комплексы в Безеклике, Могао, Майцзишань, Юньгане. Их архитектурный и художественный облик формировался за счет прямого среднеазиатского (согдийского) и опосредованного (той же Средней Азией) индийского влияния; к которым добавился мощный кочевнический импульс.
Изучение буддийских памятников раннего Средневековья и выявленных в их составе скульптурных и письменных произведений тесно связано с исследованием истории и культуры народов на периферии китайской цивилизации: южных сюнну и сяньбэй на севере, дяньцев на юго-западе. Археологические материалы указывают на взаимодействие ханьских поселенцев с местными племенами, вплоть до создания синкретической субкультуры. Для северных народов этот процесс продолжился в эпоху Наньбэйчао, когда создание собственной государственности перестает быть исключением, как при Чжоу и Хань. Однако на юге, после разгрома в начале III в. государства Елан, наследовавшего Дянь, происходит распад на несколько «великих родов». Население частично вытесняется на юго-восток, в Гуанси, где такие характерные вещи, как бронзовые барабаны, сохраняются на памятниках раннего Средневековья, а в упрощенном виде входят в состав этнографической культуры чжуанов. В заключение отметим своеобразную ситуацию на Тайване [Азаренко, 2016], где вследствие изолированности отмечается определенная культурная стагнация, поэтому разделить археологические памятники Древности и Средневековья удается лишь за счет сравнения с материком (да и то не всегда).
Список литературы О характере перехода от древности к средним векам на территории Китая (по данным археологии)
- Азаренко Ю. А. Проблема перехода от Древности к Средневековью по археологическим материалам Тайваня // Великий Шёлковый путь в исторической перспективе: Тез. докл. Межрегион. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. Новосибирск, 2016. С. 4. URL: http:// www.nsu.ru/rs/mw/link/Media:/57870/Сборник_тезисов.pdf (дата обращения 10.01.2017).
- Борисов Д. Э., Варенов А. В., Ибрагимова Р. Р. Ханьская империя на пути к гибели (события 189-196 гг. до н. э.) // Россия - Китай: история и культура. Казань: ЯЗ, 2014. С. 262-273.
- Варенов А. В., Борисов Д. Э., Ибрагимова Р. Р. Погребальные конструкции Восточной Хань и Троецарствия и проблема перехода от поздней древности к раннему средневековью по данным китайской археологии // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 4: Востоковедение. С. 204-218.
- Зах В. А. К понятию «переходный период» в археологии Западной Сибири // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 2013. № 2. С. 20-27.
- Комиссаров С. А., Соловьев А. И., Трушкин А. Г. Мультикультурализм в эпоху средневековья: к изучению могилы Юй Хуна (Тайюань, Китай) // Востоковедные исследования на Алтае. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2015. Вып. 9. С. 6-14.
- Кравцова М. Е. К проблеме Средневековья в Китае // Verbum: Альманах. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010. Вып. 12: Диспозиции Средневековья в истории мировой культуры. С. 72-93.
- Rawson J. Creating Universes: Cultural exchange as seen in tombs in Northern China between the Han and Tang periods // Хань-Тан чжицзянь вэньхуа ишудэ худун юй цзяожун / У Хун чжубянь [汉唐之间文化艺术的互动与交融 / 巫鸿主编] Культурное и художественное взаимодействие и слияние в период между Хань и Тан / Гл. ред. У Хун. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2001. С. 113-152. (на кит. яз.)
- Лю Цинбинь. Дуньэ Цао Чжи му синчжи као [刘青彬。东阿曹植墓形制考 // 华夏文明] Исследование структуры могилы Цао Чжи в уезде Дуньэ // Хуася вэньмин (г. Чжэнчжоу). 2016. № 11. С. 32-36. (на кит. яз.)