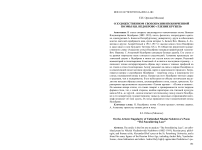О художественном своеобразии неоконченной поэмы Н.В. Недоброво «Тление кружев»
Автор: Орлова Екатерина Иосифовна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (63), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые анализируется неоконченная поэма Николая Владимировича Недоброво (1882-1919), поэта, филолога, литературного критика, однокурсника А. Блока по Петербургскому университету, друга и собеседника многих деятелей серебряного века, среди которых А. Белый, Вяч. Иванов, А. Ахматова и другие. Андрей Белый в 1912-1917 гг. высоко ценил стихи Недоброво и даже видел в нем будущего Тютчева ХХ в. В «Обществе ревнителей художественного слова» (Академии стиха) Недоброво называли правой рукой «самого» Вяч. Иванова. С Ахматовой Недоброво связывала близкая дружба. Его статья о ее раннем творчестве ныне считается классической. Ахматова продолжала поэтический диалог с Недоброво и много лет спустя после его смерти. Реальный комментарий к стихотворению Ахматовой «А в книгах я последнюю страницу.» позволяет точнее интерпретировать образы двух домов и теневых профилей на их стенах в этом стихотворении. Автор указывает на связь в лирике Недоброво и в неоконченной поэме мотивов кружева, парчи и драгоценного прошлого. Затрагивается вопрос о своеобразии Недоброво - теоретика стиха, о новаторстве его статьи, посвященной метру и ритму. Однако как поэт Недоброво тяготеет скорее к традиции, чем к эксперименту. В его небольшом по объему поэтическом наследии мы находим образцы сонета, александрийского стиха, газели, триолетов. Характерным представляется подзаголовок «Тления кружев» - «Поэма в октавах». По мнению автора статьи, это также говорит о приверженности поэта твердым формам стиха, что, с одной стороны, вообще характерно для стиховой культуры начала ХХ в., а с другой - вполне отвечает эстетическому складу самого Недоброво и его конкретному художественному замыслу, насколько сохранившийся автограф позволяет об этом судить. В статье приводится текст неоконченной поэмы Недоброво.
Н. недоброво, поэма «тление кружев», мотивы лирики, а. ахматова, триолеты, октавы, ритм и метр
Короткий адрес: https://sciup.org/149141348
IDR: 149141348 | DOI: 10.54770/20729316-2022-4-181
Текст научной статьи О художественном своеобразии неоконченной поэмы Н.В. Недоброво «Тление кружев»
Николай Владимирович Недоброво (1882-1919) был хорошо известен в литературно-журнальных кругах Петербурга и Москвы 1910-х гг. Он был однокурсником А. Блока в Петербургском университете, другом и собеседником многих деятелей серебряного века. Недоброво считался правой рукой Вяч. Иванова в Академии стиха, А. Белый в 1912-1917 гг. ценил стихи Недоброво настолько, что видел в нем будущего Тютчева XX в., несколько журналов опубликовали подборки его стихов - таков был блестящий взлет Недоброво в 1910-е гг. А. Ахматова была среди его близких друзей начиная с 1913 г, а ее поэтический диалог с Недоброво продолжался еще на протяжении долгого времени. Но и теперь, спустя 140 лет после рождения Недоброво, совершенно очевидно, что принадлежащий, по слову М.В. Михайловой, к числу «dei minores» («младших богов») Серебряного века [Михайлова 2004, 212], но сделавший в литературе и науке о ней гораздо меньше, чем бы мог, он, тем не менее, не перестает вызывать интерес исследователей и своими хотя немногочисленными, но пережившими свой век филологическими штудиями, и своей поэзией. О ней, а точнее об одной неоконченной поэме Недоброво, и пойдет речь в этой статье.
Мы часто рассматриваем предметный мир эпических и драматических произведений. О предметном мире лирики говорят гораздо реже, что и понятно: она больше имеет дело с внутренним миром. Даже если в стихотворении изображается мир внешний, в том числе и природа, - это, как правило, не то, ради чего пишется стихотворение, хотя, например, Н.А. Некрасов говорил о пейзажах Тютчева, что некоторые из них совершенны сами в себе и не требуют больше ничего. Но иногда, по мысли Некрасова, «к мастерской картине природы присоединяется мысль, постороннее чувство, воспоминание» [Некрасов 1950, 211]. Так возникает медитативная, и в частности философская поэзия. Но лирика, как известно, может быть и беспредметной, когда изображается не внешний мир, а только состояние героя (лирического субъекта etc.).
Тем более удивительно, что в поэтическом мире Недоброво мотив кружева и даже парчи прослеживается как на уровне «биографии», так и на уровне творчества. Это удивительно потому, что не так уж много известно, в сущности, о его недолгой жизни. Тем не менее мы знаем, что одна из его рабочих тетрадей была названа им самим «парчевая книга» (именно так) - за то, что была переплетена в ткань и видом напоминала книгу. Эту тетрадь-книгу поэту подарила его знакомая, и он в самом деле пользовался этой тетрадью (теперь она хранится в РО ИРЛИ), а дарительнице посвятил стихотворение, правда, не самое совершенное, полное литературной галантности с легким налетом эротизма.
Впрочем, гораздо интереснее факт, о котором впервые сообщил Р.Д. Тименчик, ссылаясь на свою устную беседу с приятельницей юности Недоброво Татьяной Модестовной Девель: «Теневой силуэт Недоброво был необычайно красив, - зная это, он повесил в кабинете, где принимал гостей, сбоку от рабочего стола, парчовую занавеску, на которую падало отражение его профиля» [Тименчик 1974, 52].
Тименчик же установил и то, что в стихотворении Ахматовой «Вторая годовщина» стихи «Как на шелку возникла стертом / Твоя страдальческая тень» относятся именно к Недоброво.
Сюжет с профилем на стене и с парчой получил продолжение, но уже в жизни Ахматовой и много лет спустя после смерти Недоброво. В эвакуации в Ташкенте, как вспоминает ГЛ. Козловская, в их доме, где часто бывала Ахматова, «Алексей Федорович (Козловский. - Е.О.) обвел, сначала карандашом, а затем углем, ее великолепный профиль. Мы с ней шутили, что когда она уходит, то профиль живет своей странной ночной жизнью» [Козловская 1991, 393].
Тогда же Ахматова написала стихотворение «А в книгах я последнюю страницу...»:
.. .И только в двух домах
В том городе (название неясно)
Остался профиль (кем-то обведенный
На белоснежной извести стены),
Не женский, не мужской, но полный тайны.
Но это чудо всем поднадоело,
Приезжих мало, местные привыкли,
И говорят, в одном из тех домов
Уже ковром закрыт проклятый профиль.
Тут нам придется ради реального комментария оставить за скобками неразгаданную авторскую иронию, а возможно, что и самоиронию: «никого не жалко», автор книги «язвит <.. .> приделывая пышную концовку», «местные привыкли», - да и сами приведенные строки появляются в стихотворении как пример такой явно выдуманной концовки с претензией на мистику. Но может быть полезен и реальный комментарий.
«В жизни двух домов не было, - свидетельствует Козловская. - Был только наш. Потом, после ее отъезда, когда профиль стал исчезать, я завесила это место куском старой парчи. При встрече в Ленинграде я об этом рассказала ей. И она воскликнула: “Боже, какая роскошь, и всего-то для бедной тени!”» [Козловская 1991, 394].
Теперь мы знаем, что «два дома», которые были в стихах и которых не было в Ташкенте, могли возникнуть по ассоциации с домом Недоброво в 1910-е гг. и с его «портретом» - теневым профилем на стене. Настоящие же портреты самого Недоброво оставались в Царском Селе, когда в 1916 г. он с женой уезжал в Сочи и Крым на лечение, и, вероятно, до наших дней не сохранились. О портретах, как думала вдова поэта Л.А. Недоброво (Ольхина), утраченных, она сожалела в письме к М.А. Волошину в 1920 г. Известно, и то только по фотографии, лишь одно скульптурное изображение Недоброво работы Д.С. Стеллецкого, но и его местонахождение не установлено. Понятно, однако, что для Ахматовой, известной ее особыми отношениями со временем и пространством, способностью поэта проникать сквозь то и другое, уже не существовавший дом давно к тому времени умершего и всеми забытого друга продолжал жить в ее памяти как реальность, даже и без того, чтобы прибегнуть к формам прошедшего времени.
Но мотив кружев никак не связан у Недоброво с Ахматовой, а в ее поэзии такого мотива, кажется, нет. Известно, что, эстет и любитель старины, Недоброво «собирал коллекцию кружев», о чем мы знаем, в частности, из разговоров Ахматовой с П.Н. Лукницким [Лукницкий 1991, 181]. Не все знакомые Николая Владимировича проявляли интерес к этому его увлечению, не все и знали о нем. Но Вл. Пяст вспоминает, как недоброжелательно настроенный к Недоброво С. Городецкий, в 1900-е гг. участник литературного кружка, в который входили А. Блок, сам Пяст, Е. Иванов, А. Кондратьев и др. (Пяст условно называет это сообщество университетским кружком, или «кружком молодых»), предлагал исключить Недоброво из кружка. Пяст воссоздает слова Городецкого: «Недоброво нам в кружке не нужен. Он производит впечатление, что вот-вот начнет собирать табакерки и будет говорить только о художественных качествах уников из своего собрания и ничем во всем мире не интересоваться. В тридцать лет будет сюсюкающим стариком» [Пяст 1997, 67].
Нам ничего не известно о «табакерках», но можно подумать, что интерес к старине вообще был свойствен Николаю Владимировичу. Пяст упоминает о студенческом сюртуке «великолепного Недоброво». Ю.Л. Сазонова-Слонимская пишет, что Недоброво, несмотря на современную элегантность, оставлял впечатление человека, приверженного прошлому. Она передает слова кого-то из современников, говоривших о Недоброво: «У него лицо Чаадаева», «он совсем из сороковых годов» [Сазонова-Слонимская 1989, 235], - но, по мнению Сазоновой-Слонимской, в то же время он был одним из ярчайших представителей именно своего поколения.
В 1912 г. Недоброво пишет «Триолеты о кружевах», которые затем, как справедливо предположил М.М. Кралин, были названы «Сон благодарности» [см.: Недоброво 2001, 316-317]. Первоначальное название стихотворения говорит нам о «жанровом сознании» Недоброво - стихотворца, но и филолога, примерно в это же время работавшего над статьей по теории стиха. Правда, в статье он говорит не о жанрах, а о соотношении ритма и метра, вопрос о жанрах же затрагивает именно в связи с ритмом. В частности, совершенно новым и в высшей степени точным представляется размышление Недоброво о том, что «простейшим способом привлечь внимание к ритму является предупреждение: “речь, которую ты сейчас услышишь, будет ритмичною”. Не по чему другому, как ради такого предупреждения, стихи искони изображаются на бумаге особым условным способом, который служит не только к открытию глазам, что сейчас будут стихи вообще, но нередко еще и дает понять, какого именно рода. Кто, по одному взгляду, не узнает элегического дистиха, эпода, сонета, рондо, терцин? Не зря первые буквы разностопных стихов печатаются не по одной отвесной линии, а то правее, то левее, и притом на определенные расстояния, так что, взглянув на лист, знаешь уже, где шестистопный, где четырехстопный и где трехстопный стих» [Недоброво 1912, 17].
Стихотворение «Сон благодарности», впервые опубликованное Крали-ным в 2001 г. [см.: Недоброво 2001, 104], отличают изящество и легкость, что не всегда бывало у нашего поэта. Парадоксально, но создается впечатление, что твердые формы стиха, как это ни странно, вообще хорошо удавались ему. В то же время как стиховед Недоброво был апологетом «свободных ритмов», которые потом могут порождать и новые метры, или, по Недоброво, «метрические схемы - чтобы снова оставить их позади» [Недоброво 1912, 23]. Так он писал в статье «Метр, ритм и их взаимоотношение», опубликованной в 1912 г. в журнале «Труды и дни». Статья тогда была замечена, вошла в научный и критический оборот [см.: Лернер 1914, 143-145]. Именно после нее термин «силлабо-тоника» постепенно, но прочно входит в категориальную систему литературоведения XX в., и русский стих XIX - начала XX вв. со временем начинает называться силлабо-тоническим. Но затем авторство Недоброво в «открытии» этого определения забывают, и в 1920-е гг. о нем помнят лишь немногие - например, В.М. Жирмунский [см.: Жирмунский 1975].
Итак, новатор и во многом первооткрыватель в теории стиха, Недоброво как поэт был скорее традиционалистом, но взращенным, конечно, в диалоге с поэтической культурой символизма.
Приведем упоминавшиеся «триолеты о кружевах» Недоброво.
Сон благодарности
О.А. Химона
Чаруя и перегибаясь, Тянулось кружево твое В моих руках - и забытье, Чаруя и перегибаясь, Сознанье облекло мое, А, по виденьям сна, ласкаясь, Чаруя и перегибаясь, Тянулось кружево твое.
Его узор замысловатый Неровно зыблясь, рос вокруг: То в сонме туч, луны подруг, Его узор замысловатый Я узнавал; то лесом вдруг, Прозрачный и зеленоватый, Его узор замысловатый Неровно зыблясь, рос вокруг.
И в пене светло-серебристой Я видел те же кружева: Морская в искрах синева И в пене светло-серебристой; И растеклась, вскипев сперва, Волна по отмели кремнистой -И в пене светло-серебристой Я видел те же кружева.
Итак, «Сон благодарности» написан триолетами. Для поэмы «Тление кружев» Недоброво выбирает октавы: снова, как мы видим, твердая форма. Это объяснимо: во всяком случае, в тех первых строфах поэмы, которые единственно нам известны, главной героиней становится бабушка, а не внучки, которые мечтают получить старинные кружева, хранящиеся в бабушкином сундуке, - она же не спешит расстаться с ними. Теме драгоценного прошлого, вероятно, по замыслу автора, и соответствовала форма октав. Напомним, в подтверждение этой мысли, что у Недоброво есть стихотворение «Дидактическая элегия о пристойном описанию Летнего сада стихе», и она посвящена не столько Летнему саду, сколько александрийскому стиху, которым и написана сама элегия, - но таков и был замысел поэта.
Когда была начата поэма «Тление кружев», неизвестно. В РГАЛИ имеется только беловой автограф, не переписанный до конца (Ф. 1811. Он. 1. Ед. хр. 2. Л. 1-2 об.). Других автографов этой поэмы, насколько известно, нет.
Ниже мы публикуем текст этой неоконченной поэмы Недоброво. Знаки препинания расставлены согласно современным правилам пунктуации. Не вполне разборчиво написанные слова отмечены знаком >.
Тление кружев
Поэма в октавах
I
Коль взрослому невнятно больше детство, Которым все ж он жил, хоть и давно, И кажется: настолько малолетство Со зрелостью ничем не сплетено, Что давности > богатое наследство Без путаниц у них поделено, И он себя сомненьем не тревожит, Что ревновать к нему ребенок может,
II
Как молодость, желчь жизненных морей, Едва-едва пригубив, в заблужденьи О старости не будет? Ведь острей Предчувствия тоска по наслажденьи, И тот, кто ждет у запертых дверей, Что знает он о жгучем наважденьи В душе того, за кем звенит замок, Кто, пир познав, под стужей одинок.
III
Две девушки, едва приманок света Вкусившие, но жаждой их полны, Дивилися, не находя ответа, Что спрятаны богатства старины, И мыслями: «Ах, почему все это Не тешит глаз ничьих», увлечены, Неопытность святую обнаружив, У бабушки просили старых кружев.
IV
Листом была от дуба вглубь земли Заросшего она - такие редки!
На дубе том махрово встарь цвели Могуществом изнеженные предки -Львы древних сечь, князья и короли... У отпрыска хоть и поникшей ветки
Вся гордость их в груди была жива, А в сундуке хранились кружева.
V
«Раз роскоши вам не дана оправа Во всем быту, убранства королев Вам, девочки, опасная отрава.
И кружевом однажды охмелев, Того, сего желать начнете. Право, В зародыше искус преодолев, Учитесь цель не в тленном блеске видеть -Тогда судьба не сможет вас обидеть».
VI
Так бабушка отказывала им, А думала: «Затем ли собирали Весь этот клад, затем ли он храним, Чтоб без толку узоры разодрали, В которых мы воспоминанья чтим». А девочки узнали из морали, Что в кружевах сокрыт какой-то хмель. Так ощупью находят люди цель.
VII
Хмель кружева... Во всей пьянящей силе Со временем, среди других услад, Красавицы, вы и его вкусили, Хоть бабушкин не раскрывался клад. Да и в сердцах вы тоже хмель носили, Смывающий > -ис ними биться в лад, Пьянея им, сердца других стремились. И те и вы бросались и томились.
VIII
А время шло... Метала вас любовь, И вы сердца влюбленные метали, Палила вас, перекипая, кровь И кольцами из золота и стали Смыкались вы и размыкались вновь, А все сильней на бабушку роптали: «Не дать теперь нам кружев - значит быть Старухою весь век и жизнь забыть».
IX
Ах! Если бы порассказать о старом, Завидуя, вы знали бы тогда, Что бабушка глядит на вас недаром С улыбкою: дышала, молода, Она таким, пьянящим сердце, жаром, Так прожила ей данные года И так в своем сияла обаяньи, Что сумерки ваш свет в ее сияньи.
Список литературы О художественном своеобразии неоконченной поэмы Н.В. Недоброво «Тление кружев»
- Жирмунский В. Теория стиха. Л.: Советский писатель, 1975. 664 с.
- Козловская Г.Л. «Мангалочий дворик…» // Воспоминания об Анне Ахматовой. М.: Советский писатель, 1991. С. 378–400.
- Лернер Н. Н.Н. Шульговский. Теория и практика поэтического творчества. Технические начала стихосложения. Изд-ва т-ва М.О. Вольф. СПб. и М., 1914 // Нива. Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения. 1914. № 5. С. 143–145.
- Лукницкий П.Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. 1924-25 гг. Paris: YMCA-Press, 1991. 347 с.
- Михайлова М. «Различения и скорби» Николая Недоброво: взгляд из ХХI века // Знамя. 2004. № 12. С. 212–214.
- Недоброво Н. Милый голос. Избранные произведения. Томск: Водолей, 2001. 351 с.
- Недоброво Н.В. Ритм, метр и их взаимоотношение // Труды и дни. 1912. № 2. С. 14–23.
- Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем. Т. 9. М.: ГИХЛ, 1950. 839 с.
- Пяст Вл. Встречи. М.: Новое литературное обозрение, 1997. 416 с.
- Сазонова-Слонимская Ю.Л. Николай Владимирович Недоброво. Опыт портрета // Ахматова А.А. Поэма без героя: в 5 кн. М.: Изд-во МПИ, 1989. С. 232–248.
- Тименчик Р.Д. Ахматова и Пушкин. Заметки к теме // Пушкинский сборник. Вып. 2. Рига, 1974. С. 32–55.