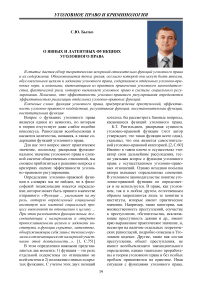О явных и латентных функциях уголовного права
Автор: Бытко С.Ю.
Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd
Рубрика: Уголовное право и криминология
Статья в выпуске: 2 (16), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье дается обзор теоретических воззрений относительно функций уголовного права и их содержания. Обосновывается точка зрения, согласно которой они могут быть явными, обусловленными целями и задачами уголовного права, содержанием отдельных уголовно-правовых норм, и неявными, вытекающими из практики применения уголовного законодательства, фактической роли, которую выполняет уголовное право в системе социального регулирования. Показано, что эффективность уголовно-правового регулирования определяется эффективностью реализации отдельных уголовно-правовых функций.
Функция уголовного права, предупреждение преступлений, эффективность уголовно-правового воздействия, регулятивная функция, восстановительная функция, воспитательная функция
Короткий адрес: https://sciup.org/142197679
IDR: 142197679
Текст научной статьи О явных и латентных функциях уголовного права
Вопрос о функциях уголовного права является одним из немногих, по которым в теории отсутствует даже слабое подобие консенсуса. Разногласия всеобъемлющи и касаются количества, названия, а также содержания функций уголовного права.
Для нас этот вопрос имеет практическое значение, поскольку, раскрывая функциональное значение уголовного права в сложной системе общественных отношений, мы сможем приблизиться к решению вопроса о критериях оценки эффективности уголовно-правового регулирования.
Определения уголовно-правовой функции в словарях мы не найдем, но в философской энциклопедии имеется определение, которое может быть принято в качестве отправного: «Функция ... указывает на ту роль, которую определенный социальный институт или частный социальный процесс выполняют по отношению к целому ... При этом различаются функции явные, т.е. совпадающие с намерениями и открыто провозглашаемыми целями и задачами института, и функции скрытые, латентные, обнаруживающие себя лишь с течением времени и отличающиеся от намерений участников этой деятельности...» . [1, C.751]
В этом определении важными представляются два момента: 1) функция – это роль отдельной подсистемы по отношению ко всей системе и 2) положение о явных и скрытых функциях. С учетом этих двух позиций хотелось бы рассмотреть базовые вопросы, касающиеся функций уголовного права.
Б.Т. Разгильдиев, раскрывая сущность уголовно-правовой функции (этот автор утверждает, что такая функция всего одна), указывал, что она является самостоятельной уголовно-правовой категорией. [2, C.60] Именно в таком ключе и осуществлял этот автор свои дальнейшие рассуждения, тесно увязывая вопрос о функции уголовного права с осуществлением уголовно-правовых отношений. Однако исходная посылка автора вызывает определенные сомнения. В уголовном законодательстве понятие уголовно-правовой функции не определяется и не используется. В праве, как уголовном, так и в любом другом, естественным образом закрепляются лишь те понятия и институты, которые имеют практическое значение. Например, такие категории, как множественность преступлений, соучастие в преступление, обстоятельства, исключающие преступность деяния и др., имеют ярко выраженное практическое значение, и, несмотря на наличие отдельных теоретических разногласий, подробно описаны в Уголовном кодексе. Другие, такие как состав преступления, объект преступления, не имеют всеобъемлющего законодательного определения, однако тщательно проработаны в теории уголовного права и без особых проблем применяются на практике. Иная ситуация с функциями уголовного права.
Неразбериха, сложившаяся в теории относительно этого понятия, а также отсутствие нормативного определения вызывают сомнение в правоте Б.Т. Разгильдиева.
Если рассматривать какую-либо систему, например, отдельную отрасль права, то, оперируя внутренней терминологией, специфическими целями и задачами этой системы, познать ее функции в полном объеме невозможно. Но это вполне может быть сделано при рассмотрении системы более высокого уровня, на котором отдельная отрасль проявляет себя лишь в качестве составной части, например, законодательства страны. Впрочем, исходя из определения функции, ничто не препятствует нам изучать функции уголовного права не только относительно всего законодательства, но и общества в целом.
Однако если анализировать уголовное право лишь в уголовно-правовой терминологии, то все, что будет нам доступно, – это понимание значения (функционала) отдельных уголовно-правовых институтов.
Так, рассматривая как систему, например, автомобиль, мы не сможем полностью понять его функционал, рассматривая лишь его устройство. Но если провести анализ в более широком контексте, то мы можем обнаружить, кроме базовых функций, связанных с передвижением, ряд других, зачастую очень важных, например, обеспечение безопасности пассажиров и пешеходов, защита от непогоды, развлечение (аудиосистема автомобиля), эстетическая (внешний вид), хранение вещей (в кабине) и т.д. и т.п. При этом оценка всего автомобиля производится на основании совокупности данных о качестве реализации всех его функций.
По аналогии можно утверждать, что функции уголовного права не являются исключительно уголовно-правовой категорией. Поэтому неправильно анализировать их так же, как и состав преступления или уголовно-правовые отношения, выделяя объект функции [2, С.60], момент ее возникновения и окончания действия. [2, С.63]
Также неверным представляется замечание Н.А. Лопашенко, которая, возражая против существования функции обеспечения справедливости, указывает на то, что справедливость – принцип права и низведение его до уровня функции неверно методо- логически. [3, С.75] Полагаем, что принципы и функции права не находятся в какой-то общей иерархической системе, где может осуществляться снижение или повышение значения одного за счет другого. Они, если так можно выразиться, находятся в разных системах координат, их сравнение некорректно. Принципы уголовного права являются руководством, прежде всего, для законодателя, опирающегося на них при конструировании новых норм. Функции же отражают роль уголовного права в системе правового регулирования. И если говорить о функции обеспечения справедливости, о которой написал В.В. Мальцев, то она будет существовать независимо от наличия в уголовном праве соответствующего принципа, а также от его законодательной формулировки.
В различных условиях уголовное право может приобретать дополнительные функции или утрачивать их. А.И.Коробеев, например, указывает на существование у уголовного права воспитательной функции. [4, С.15] Вполне соглашаясь с этим автором, отметим лишь, что ее реализация зависит не только от самого уголовного права, но и множества других условий. Например, сложившаяся судебная практика назначения наказания за получение взятки, при которой вероятность назначения наказания в виде лишения свободы должностному лицу лежит на уровне статистической погрешности (3-4%), а кратные штрафы во многих случаях не исполняются, не способствует воспитанию граждан в духе уважения к Закону.
Хотелось бы рассмотреть еще одно высказанное в теории права положение. И.Э. Звечаровский, возражая против выделения воспитательной функции уголовного права, аргументировал свою позицию тем, что в данном случае отсутствует специально организованный и управляемый процесс формирования личности уголовно-правовыми средствами, осуществляемый специальными субъектами (педагогами) в особых учебно-воспитательных формах и учреждениях. [5, С.17] Н.А. Лопашенко, возражая авторам, признающим существование восстановительной функции состоящей в восстановлении нарушенных преступным посягательством общественных отношений, указывает, что приведенные ими в качестве примера нормы о примирении с потерпев- шим, заглаживании вреда, причиненного потерпевшему, возмещении имущественного ущерба и морального вреда и т.д., не свидетельствуют о наличии у уголовного права специальной восстановительной функции, наличии специального направления уголовно-правового воздействия. [3, С. 74]
Приведенные точки зрения И.Э. Звеча-ровского по поводу воспитательной функции и Н.А. Лопашенко основываются, среди прочего, на представлении, что уголовное право для обладания какой-либо функцией должно обладать специфической направленностью (наличием специальных норм в УК РФ).
С формальной точки зрения обе позиции уязвимы для критики. Так, И.Э. Зве-чаровский, отказывая уголовному праву в воспитательной функции, не упоминает существующего в действующем уголовном законодательстве института принудительных мер воспитательного воздействия, применяемых к несовершеннолетним, совершившим преступления. Однако даже если не учитывать формальные неточности в позиции И.Э. Звечаровского и сосредоточиться на содержательной стороне, то можно увидеть, что воспитательная функция уголовного права реализуется по отношению не только к этой категории лиц, ее адресное воздействие гораздо шире. Уместно привести в связи с этим мнение выдающегося педагога А.С. Макаренко о том, что воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле: «Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего - люди. Из них на первом месте - родители и педагоги. Со всем сложнейшим миром окружающей действительности ребенок входит в бесконечное число отношений, каждое из которых неизменно развивается, переплетается с другими отношениями, усложняется физическим и нравственным ростом самого ребенка». [6] Таким образом, уголовному праву нет нужды иметь в себе какие-то специальные институты для реализации воспитательной функции. Неотвратимость уголовной ответственности и назначение справедливых наказаний являются социальными явлениями, которые сами по себе, без всяческих дополнительных норм, оказывают впечатляющее воздействие не только на лиц, склонных к совершению преступления, но и на всех остальных граждан, в том числе, и взрослых, наглядно демонстрируя торжество закона и наказание зла. В тех же случаях, когда преступникам попустительствуют, не применяя правильно уголовный закон, если складывается практика применения наказаний, не соответствующих тяжести совершенного деяния, либо несправедливы сами уголовно-правовые нормы, воспитательное воздействие, тем не менее, тоже оказывается, меняется только его знак – с положительного на негативное. Имеется и еще одно соображение по поводу воспитательной функции: отказывая уголовному праву в функции воспитания, игнорируя этот вопрос, мы отказываемся от моральных ориентиров в правосудии, допуская вынесение любых, формально законных, но аморальных приговоров. Полагаем, что такой подход негативно отражается на эффективности предупредительного воздействия уголовно-правовых норм. Таким образом, реализация воспитательной функции уголовного права не требует наличия специальных уголовно-правовых норм.
Что касается точки зрения Н.А. Лопа-шенко, то формальные претензии могут быть и к ней. Так, одним из условий освобождения от уголовной ответственности в соответствии со ст. 75, 76, 76.1 УК РФ является возмещение причиненного ущерба или заглаживание причиненного вреда, что вполне может быть истолковано как проявление восстановительной функции уголовного права. Однако хотелось бы выйти за формальные рамки и рассмотреть содержание этой функции подробнее. По этому поводу имеются абсолютно противоположенные позиции. Ряд авторов утверждают, что уголовное право восстанавливает общественные отношения, которым преступление причинило вред. [5, С.16] Другие утверждают, что нарушенные отношения восстановить невозможно. [3, С.74-75]
Мы полагаем, что восстановительная функция уголовного права вообще не имеет отношения к общественным отношениям, под которыми, в соответствии с определением, понимаются многообразные связи, возникающие между социальными группами, классами, нациями, а также внутри них в процессе их экономической, социальной, политической, культурной жизни и деятельности. [1, С.450] Отсюда следует, что такие отношения являются массовыми, типичными взаимодействиями. Конкретное преступление (если это не исключительное по масштабам деяние), как правило, причиняет вред лишь единичным отношениям между отдельными людьми.
Так, единичная кража, нарушая порядок взаимодействий потерпевшего по поводу права собственности, не изменяет (деформирует) всеобщий установленный порядок взаимоотношений в этой сфере, не влияет на осуществление общепринятых способов приобретения или продажи имущества. Общественные отношения могут понести ущерб лишь в случаях, когда применяемые уголовно-правовые нормы неэффективны либо имеет место массовое неприменение уголовного закона, паралич власти. В подобных случаях общепринятые модели поведения (общественные отношения) претерпевают изменения, однако восстановить их средствами уголовного закона невозможно и, прежде всего, потому, что он (закон) для этого и не предназначен. Уголовно-правовыми средствами можно нейтрализовать деятельность лиц, препятствующих их нормальному функционированию, да и то не всегда (например, при убийстве или причинении тяжкого вреда здоровью, единичные отношения, основанные на участии потерпевшего, могут быть разрушены необратимо).
Таким образом, содержание восстановительной функции не может включать в себя восстановление нарушенных общественных отношений. Применение уголовно-правовых норм реализует, по нашему мнению, охранительную функцию, состоящую в защите от преступных посягательств критически важных для нормального функционирования общества общественных отношений, при которой недопустимо применять насилие, нарушать общественный порядок и т.п.
Что касается восстановительной функции, то речь может идти о восстановлении социальной справедливости, в том контексте, в каком о ней говорил В.В. Похмелкин. Он выделял следующие аспекты восстановительной функции: 1) удаление осужденных из определенной сферы общественных отношений, способствующее ее оздоровлению, упорядочению, восстановлению нор- мального функционирования; 2) восстановление осужденного в качестве полноценного участника социалистических общественных отношений; 3) восстановление авторитета закона; 4) восстановление морально-психологического спокойствия населения и реализация требования неотвратимости ответственности за преступление. [7]
Что касается положений УК РФ, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности при возмещении ущерба или заглаживании вины, то здесь, на наш взгляд, имеет место, с одной стороны, поощрение данных лиц к определенному поведению (Н.А. Лопашенко говорит о стимулирующей функции уголовного права), с другой – компенсация причиненного вреда, хотя необходимо понимать, что компенсационная функция уголовного права носит строго ограниченный характер. В ряде случаев причиненный вред компенсировать в принципе невозможно.
Если смотреть на функции уголовного права с учетом приведенного выше определения, можно предположить, что к явным функциям уголовного права следует отнести те, которые прямо вытекают из задач Уголовного кодекса, провозглашенных в ст. 2, целей уголовного наказания и некоторых других положений УК РФ. Так, к числу явных функций следует отнести охранительную функцию, содержание которой раскрывается ст. 2 УК РФ, и предупредительную функцию, поскольку предупреждение преступления провозглашено одной из целей наказания.
В литературе мы не встречали упоминания о функции обеспечения государственного суверенитета в сфере уголовного преследования. Между тем она реализуется положениями ч. 1 ст. 11 УК РФ, в соответствии с которой Российская Федерация обладает исключительным правом уголовного преследования лиц, совершивших преступления на ее территории, а также ч. 1 ст. 13 УК РФ, запрещающей выдачу граждан Российской Федерации, совершивших преступления на территории иностранного государства.
Ряд авторов указывают на регулятивную функцию уголовного права, хотя понимают ее по-разному. Б.Т. Разгильдиев писал о ре-гулятивно-обязывающей функции, содержание которой состоит в обеспечении ис- полнения гражданами своих обязанностей воздерживаться от совершения преступления. [2, С.62] Лопашенко Н.А. полагает, что регулятивная функция проявляется в применении уголовно-правовой нормы к лицу, преступившему ее запрет. [3, С.71-72]
Несомненно, что перечисленные точки зрения отражают различные аспекты правового регулирования. Полагаем, что в таких случаях теоретики должны приходить к консенсусу в том, что понимать под регулированием. Позиция Н.А. Лопашенко отражает свойство любой отрасли права – применением соответствующих норм регулировать общественные отношения. Однако такое понимание не отражает другого аспекта, состоящего в том, что правовые ограничения и запретов, подкрепленные санкциями за их нарушение, сами по себе являются регуляторами поведения, даже без реального применения правовых норм. Ведущим элементом здесь выступает санкция за нарушение предписания. Практика показывает, что важно не только возможное наказание, но и вероятность его назначения (неотвратимость). Ярким подтверждением этому явилась ситуация с налоговыми преступлениями. В ноябре 2013 г. на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив Президент России В.В. Путин подверг критике ситуацию в сфере противодействия налоговым преступлениям. Либерализация уголовного и уголовно-процессуального законодательства, обусловленная стремлением оградить предпринимателей от злоупотреблений со стороны правоохранительных органов и существенно затруднившая возбуждение уголовных дел, привела к тому, что во многих регионах правоохранительные органы фактически перестали возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям. Однако это не привело к интенсивному наполнению бюджета налогами. Например, в столице из миллиарда рублей, который должен быть получен казной на основании судебных решений и приговоров по налоговым делам, было возмещено всего 4 миллиона рублей. Приведенный пример демонстрирует влияние неотвратимости наказания на общественные отношения. Поэтому, говоря о регулятивной функции уголовного права, мы склонны понимать ее как фактическое регулирование поведения людей путем установления правовых ограничений.
Такая трактовка регулятивной функции интересна тем, что позволяет по-новому сформулировать критерии эффективности уголовно-правового воздействия. Если угроза наказанием регулирует поведение, то оценивать эффективность наказания можно по качеству регулирования, в данном случае – по динамике собираемости налогов, размеров недоимок по налогам и т.д.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы.
Уголовное право в системе правового регулирования выполняет разнообразные функции, которые можно условно разделить на явные, вытекающие из целей и задач уголовного права (охранительная, предупредительная, обеспечения суверенитета в сфере уголовно-правовых отношений, восстановительная, стимулирующая функции) и неявные (воспитательная, регулятивная функции, а возможно, и другие).
Эффективность уголовно-правового регулирования, на наш взгляд, тесно связана с эффективностью реализации тех или иных функций. Здесь мы видим практический выход рассматриваемого вопроса, состоящий в возможности оценки эффективности уголовно-правового воздействия по качеству реализации функций уголовного права.
Список литературы О явных и латентных функциях уголовного права
- Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983. 839 с.
- Уголовное право России. Курс лекций. Т. 1., кн. 1. Саратов:Саратовская государственная академия права, 2004. 320 с.
- Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. 339 с.
- Уголовное право Российской Федерации: В 2 т. Т. 1: Общая часть/под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. М.: Инфра-М, 2002. 384 с.
- Уголовное право России. Общая часть/под ред. И.Э. Звечаровского. М.: Юристь, 2004, 137 с.
- Макаренко А.С. Избранные произведения в трех томах. Т. 2. Киев: Радянська школа, 1985. 574 с.
- Похмелкин В.В. О восстановительной функции советского уголовного права//Правоведение. 1990. № 2. С.40-47.