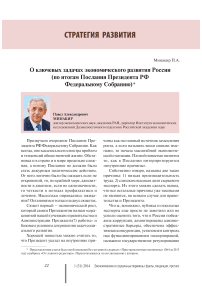О ключевых задачах экономического развития России (по итогам послания президента рф федеральному собранию)
Автор: Минакир Павел Александрович
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Стратегия развития
Статья в выпуске: 1 (31), 2014 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/147109609
IDR: 147109609
Текст статьи О ключевых задачах экономического развития России (по итогам послания президента рф федеральному собранию)
Павел Александрович
МИНАКИР доктор экономических наук, академик РАН, директор Института экономических исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук
Прозвучало очередное Послание Президента РФ Федеральному Собранию. Как всегда, оно касалось всего спектра проблем и тенденций общественной жизни. Обстановка и в стране и в мире предельно сложная, а потому Послание не должно было стать дежурным политическим действом. От него логично было бы ожидать если не откровений, то, по крайней мере, адекватности в диагнозе, если не однозначности, то четкости в методах профилактики и лечения. Насколько оправдались ожидания? Остановимся только на двух сюжетах.
Сюжет первый – экономический рост, который самим Президентом назван «сердцевиной нашей (очевидно правительства и Администрации Президента?) работы» и базовым условием для решения задач социального развития.
Хорошей новостью можно считать то, что Президент указал на внутренние при- чины как на главный источник замедления роста, а если называть вещи своими именами, то начала масштабной экономической стагнации. Плохой новостью является то, как в Послании интерпретируются «внутренние причины».
Собственно говоря, названы две такие причины: 1) низкая производительность труда, 2) слишком высокая доля сырьевого экспорта. Из этого можно сделать вывод, что все остальные причины уже таковыми не являются, во всяком случае для правительства и Президента.
Что ж, возможно, публика и отдельные эксперты еще просто не заметили или не успели оценить того, что в России побеждена коррупция, демонтированы административные барьеры, обеспечена эффективная конкуренция, установлен контроль над функционированием госкорпораций, налажено государственное регулирование деятельности монополистов всяческого толка (естественных и противоестественных), реализована вменяемая денежнокредитная политика, налажен контроль над внешними заимствованиями (государственными и корпоративными), заменено «бюджетное правило» на правило оптимизации «незащищенных» бюджетных расходов, оптимизированы внешние капитальные потоки, решена проблема бюджетных навесов на региональном и муниципальном уровнях и устранена угроза субнациональных дефолтов, гарантированы права собственности, сформирована вменяемая промышленная политика и т.д. Это возможно, но неправдоподобно. Скорее, все вышеперечисленное столь многотрудно и конфликтно, что лучше было ограничиться предельно общими и оттого кажущимися очень правильными и логичными лозунгами.
Впрочем, повышение производительности труда – действительно важная тема. Следует лишь понимать, что сама производительность труда как отношение объема ВВП к численности занятых в экономике – это не более чем индикатор, свидетельствующий о качестве труда, организации производственных процессов, состоянии технической структуры капитала, уровне технологии и пр. Низкий уровень производительности труда свидетельствует о том, что крайне низок уровень организации и технологии по всей цепочке экономических взаимосвязей и для всех экономических агентов.
В действительности проблема с индикатором результативности живого труда даже более серьезна, чем отражено в Послании. Президенту предоставили данные, согласно которым Россия входит в «пятерку крупнейших экономик мира». Это действительно так, если судить по данным международных институтов за 2012 г. Правда, в пятерку Россия входит только по данным
Всемирного банка, а по данным МВФ и ЦРУ занимает 6-е место, но и это очень неплохо, хотя оценка ВВП различается почти на 800 млрд. долл. США1. Но следует учесть, что это данные, полученные при сопоставлении уровней ВВП, оцененных по паритету покупательной способности. А если сравнивать оценки номинального ВВП, да еще и на душу населения, что, собственно, и характеризует уровень экономического развития, то Россия сразу откатывается на скромное 50-е место между Литвой и Латвией. Конечно, если бы на каждого занятого производилось хотя бы в 2 раза больше ВВП по номинальной величине, то Россия подтянулась бы к Испании и Израилю, то есть на 30–32-е место2.
Как же предлагается добиться этого светлого будущего? Президент предложил рецепт из четырех ингредиентов: повышение качества профессионального образования, создание гибкого рынка труда, благоприятный инвестиционный климат, современные технологии. В этом ничего удивительного и нового, конечно, нет. Есть нюансы. И удивительные.
Основа основ роста продуктивности живого труда – рост его технической и технологической вооруженности. А этого нельзя добиться без постоянной интродукции новых технических и технологических решений. Поэтому неудивительно, что свои поручения Президент начинает с поручения правительству и (вот это уже удивительно) Академии наук «провести корректировку перспективных направлений развития науки и техники». Ведь только что Академия наук была если и не уничтожена формально, то демонстративно унижена. У Академии наук фактически отобрано право определения направлений и перспектив научного и технологического поиска, а через два месяца после этого на академию возлагается задача определить путь технологического обновления. Может быть, это сделано по привычке? А может быть, обозначается будущий виноватый на случай (весьма вероятный) неудачи проекта «рывок производительности труда». Это было бы логично, ведь не правительство же ответит за провалы в экономике, ведь нехорошо, когда виноватого вообще нет, как, например, в случае с провалом «рывка ВВП».
Еще один нюанс – прикладные исследования, которые действительно являются ключевым пунктом в практических инновациях. Но при этом ни слова не сказано про ключевое звено в прикладных разработках – корпоративные разработки, центры, лаборатории, то есть про то, что ранее называлось «отраслевая наука». Подмена проблемы организации НИОКР и связи их с фундаментальными исследованиями проблемой патентов/лицензий и доходов от них не приближает к желаемому технологическому перевооружению. Страна может производить много патентов/лицензий, но использоваться они будут только при наличии спроса на вероятнее результаты их использования. Поэтому действительно нужно «формировать внутренний спрос на высокие технологии». Но почему только высокие технологии? А что, просто технологии нас уже не устраивают или с ними все обстоит благополучно?
Но предположим, что каким-то чудесным образом в условиях начавшегося развала фундаментальной науки, летаргического сна прикладных разработок, немо-тивированности отечественного бизнеса на реализацию стратегии модернизации, что требует в разы более высокой нормы накопления при отсутствии доступных кредитных источников, в России в разы же увеличилось количество собственных патентов и лицензий. Что произойдет с производительностью труда? Скорее всего, ничего. Потому что увеличение доли доходов от патентов и лицензий в стоимости ВВП означает лишь изменение структуры произведенного ВВП, да и то при условии, что отечественные патенты и лицензии востребованы рынком, то есть конкурентоспособны и на внутреннем, и на внешнем рынках. А еще потому, что невозможно базировать национальную экономику на собственных лишь патентах, реальная проблема – организация эффективного и непрерывного сплошного технологического заимствования. Но это требует изменения мотивации в экономике, изменения политики накопления, изменения целого ряда институтов, и отнюдь не одних только «институтов развития».
Второй сюжет связан со стратегическими целями экономического развития. В Послании в качестве примера таких целей приведена задача «подъема Сибири и Дальнего Востока», что названо рациональным проектом XXI в. Нельзя не согласиться, что «задачи, которые предстоит решить, беспрецедентны по масштабу ...и наши шаги должны быть нестандартными». Существуют в этой связи две проблемы, которые в тексте Послания явно не отражены.
Во-первых, остается большая неопределенность как раз с задачами, которые предстоит решить. Что это за задачи? Есть версии, но нет ясности. Это могут быть задачи ускорения темпов роста ВВП ria Дальнем Востоке и в Сибири. Это могут быть задачи увеличения объемов внешнеторгового оборота с восточными соседями. Это могут быть задачи создания «открытой экономики». Это могут быть задачи создания новой индустрии, задачи изменения структуры экономики. Это могут быть задачи создания комфортной среды обитания. И этот список можно продолжать довольно долго. От четкого и однозначного определения задачи зависит, как известно, и метод ее решения, и вероятный результат. Четкость и однозначность, однако, по-прежнему в дефиците.
Во-вторых, остается неопределенность как раз с «нестандартными шагами». Как следует из текста Послания, в качестве нестандартных решений имеется в виду создание сети «специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт». Это уже весьма похоже на концепцию новой индустриализации в версии «модели экспортно-производственных дуг», проектов «ТОР-2030» и «ТОР-2050»3. Различие заключается в том, что упомянутые проекты предполагают специализацию в этих зонах на использовании технологических монополий, в том числе, и даже преимущественно, при переработке предназначенного для экспорта сырья и ориентированного на экспорт нового промышленного производства. В Послании такого акцента не делается, то есть предполагается, что предоставление налоговых льгот и обещание создания условий ведения бизнеса, конкурентных с ключевыми деловыми центрами АТР, – достаточные аргументы для переориентации отечественных и иностранных инвестиций в Восточную Сибирь и на Дальний Восток.
Это неявно предполагает, что государство готово взять на себя расходы по ком- пенсации не просто повышенных издержек на производство, но и таких «невидимых» статей, как, например, потери от низкого масштаба, повышенной капиталоемкости, увеличения уровня конкуренции. Если так, то тем более следовало бы ясно понимать, ради чего, ради какого экономического или военно-политического результата это делается.
Но даже если все это известно и объяснено, то все-таки нестандартными эти шаги назвать трудно. Это как раз весьма стандартные действия, которые должны учитывать главное – они дадут успех только в том случае, когда определены ключевые сравнительные преимущества подобных «зон». Такими преимуществами могут быть технологическое лидерство, изобилие и дешевизна ресурсов и/или факторов производства, масштаб рынка, преференциальная система институтов. Льготы налоговые могут и должны способствовать облегчению принятия решений по использованию этих преимуществ в том или ином месте.
Возможно, что краткость Послания не позволила развить продекларированные намерения по этим двум сюжетам и это будет сделано позднее. Хуже, если в этой краткости и схематичности изложенных намерений в очередной раз «зашита» уверенность в пресловутой «невидимой руке рынка», которая сама все расставит по местам. Тогда еще не раз придется обращаться к этим темам на уровне абстрактных идей и намерений.
On the key tasks of Russia’s economic development (following the Address of the RF President to the Federal Assembly)