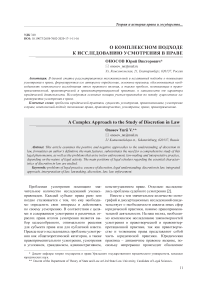О комплексном подходе к исследованию усмотрения в праве
Автор: Оносов Юрий Викторович
Журнал: Вестник Омской юридической академии @vestnik-omua
Рубрика: Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве
Статья в выпуске: 1 т.17, 2020 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются положительный и негативный подходы к пониманию усмотрения в праве, формулируются его авторское определение, основные признаки, обосновывается необходимость комплексного исследования этого правового явления, а также проблем, возникающих в правоприменительной, правотворческой и правоинтерпретационной практике, в зависимости от характера юридической деятельности. Исследуются основные позиции ученых-правоведов по поводу сущностных характеристик усмотрения в праве.
Проблемы юридической практики, сущность усмотрения, правопонимание, усмотрение в праве, комплексный подход, толкование права, правотворчество, усмотрение, право, правоприменение
Короткий адрес: https://sciup.org/143170961
IDR: 143170961 | УДК: 340 | DOI: 10.19073/2658-7602-2020-17-1-11-16
Текст научной статьи О комплексном подходе к исследованию усмотрения в праве
Проблемам усмотрения посвящено значительное количество исследований ученых-правоведов. Каждый субъект права рано или поздно сталкивается с тем, что ему необходимо определить свои интересы и действовать по своему усмотрению. В соответствии с целями и содержанием усмотрения в различных отраслях права итогом усмотрения является выбор целесообразного, оптимального решения для субъекта права или для публичной власти. Прежде всего исследовались проблемы усмотрения как общетеоретической категории, а также правоприменительного усмотрения, усмотрения в уголовном, гражданском, административном, конституционном праве. Отдельно исследовались проблемы судебного усмотрения [2].
Вместе с тем значительное количество монографий и диссертационных исследований свидетельствует о необходимости анализа иных сфер юридической практики, помимо правоприменительной деятельности. На наш взгляд, необходимо комплексное исследование закономерностей усмотрения в правотворческой и правоинтерпретационной практике, так как правотворчество и толкование права представляют собой часть юридической практики. Юридическая практика – динамичное правовое явление, поскольку непрерывно происходит обновление и совершенствование российского законодательства, создание новых и совершенствование старых методов правового регулирования.
По справедливому мнению В. Н. Карташова, «юридическая практика – это деятельность по изданию (толкованию, реализации, систематизации и т. п.) юридических предписаний, взятая в единстве с накопленным правовым опытом» [11, с. 15].
Не вызывает сомнения тот факт, что правоприменение и правотворчество – виды деятельности, которые отличаются по целям и задачам. Правоприменение связано с вынесением правоприменительного акта, устанавливающего права и обязанности субъектов права, а правотворчество направлено на создание нормы права и соответствующих правил поведения. Справедлив в этой ситуации вопрос о том, требует ли отдельного внимания исследователя усмотрение в правотворчестве. С точки зрения классической теории разделения властей исполнительная власть не должна иметь права на нормотворчество, поскольку в ее компетенции – исполнение законов. Однако Д. Локк, один из основоположников названной теории, в работе «Два трактата о правлении» доказывает необходимость наличия полномочий на усмотрение у органов исполнительной власти [12].
Возможно ли правовое усмотрение при непосредственном создании подзаконных правовых норм органами исполнительной власти? Порядок применения усмотрения может быть установлен в актах с большей юридической силой следующими способами: путем указания нескольких вариантов решения определенного вопроса и предоставления права выбора одного из них; через указание пределов возможного решения по соответствующему вопросу [23, с. 13].
Авторы, исследующие проблему усмотрения в праве, отмечают ее неразрешенность на понятийном уровне. В правовой науке нет единого подхода к пониманию усмотрения в различных сферах юридической практики, несмотря на то что данный термин употребляется в нормативных правовых актах. Не проанализировано соотношение его со смежными категориями, такими как «пределы правового регулирования», «правовой интерес», «дискреционные полномочиями», «оценочные понятия», «диспозитивный метод правового регулирования», «дискреция», «злоупотребление правом». Кроме того, не выработаны классификации, функции правового усмотрения, закономерности возникновения и изменения, особенности воздействия на юридическую практику. Данная проблематика станет предметом отдельного исследования автора.
В условиях социально-экономических и политических преобразований российского государства данный комплекс научных проблем не утратил своей актуальности. Более того, их разрешение имеет важное значение сейчас, когда происходит непрерывный процесс изменения системы российского законодательства, совершенствования существующих способов правового регулирования, таких как управомо-чивание, обязывание и запрещение.
Термин «усмотрение» означает «заключение», «мнение», «решение»; «усмотреть» – «открыть, увидеть, обнаружить решение», которое связано с познавательной деятельностью субъектов и интерпретацией конкретных фактов и явлений в определенной жизненной ситуации в целях выбора варианта поведения.
В философии категория «усмотрение» используется в связи с понятием «сущность». «Усмотрение сущности» согласно феноменологии Э. Гуссерля представляет собой духовный акт, посредством которого человек уясняет идею вещи, значение сущности прямо или косвенно через оценку соответствующей вещи [7, с. 565].
В теории правовой науки выработано два подхода к усмотрению – сторонники первого подхода рассматривают усмотрение как форму злоупотребления правом и выступают за его ограничение, сторонники второго подхода рассматривают усмотрение как необходимое условие реализации прав и свобод человека и гражданина. Остается неразрешенным вопрос, вкладываем ли мы негативный или позитивный смысл в понятие усмотрения в праве.
Значительное число практикующих юристов считают, что усмотрение в праве является условием для различного рода злоупотреблений, и противопоставляют усмотрение таким аксиомам права, как «без вины отсутствуют основания уголовной ответственности» «неотвратимость юридической ответственности за совершенное правонарушение», «все равны перед требованием закона», «наказание должно быть достаточным средством для достижения его целей». Профессор А. И. Экимов определяет правовые аксиомы как «общепризнанные требования справедливости, которые с точки зрения действующей морали должны стать частью действующего права. По своему содержанию аксиомы ничто иное, как простые правила морали и справедливости, необходимые для нормальной жизни людей» [25, с. 124–125]. Таким образом, усмотрение в праве частью юристов противопоставляется нормам морали и справедливости в обществе.
Рассмотрим более подробно первый подход . Так, Аристотель отмечал, что «эфоры выносят решение по важнейшим судебным делам, между тем как они сами оказываются случайными людьми; поэтому было бы правильнее, если бы они выносили свои приговоры не по собственному усмотрению, но следуя букве закона» [1, с. 432]. Платон отмечал, что «я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей-то властью. Там же, где закон владыка над правителями, а они – его рабы, я усматриваю спасение государства…» [17, с. 198].
Подобное негативное отношение можно встретить в Болонской школе права (средневековая школа глоссаторов, XII–XV вв.). Представители школы глоссаторов изучали римское право и отстаивали тезис о том, что невозможно трактовать закон или не применять его по мотивам противоречия справедливости [10, с. 136]. Таким образом, глоссаторы рассматривали римское право «писанным разумом» и видели свою цель в том, чтобы выявить точный смысл античных норм, ничего не меняя в их содержании.
Отрицали усмотрение в праве также представители теории общественного договора. Закон, по их мнению, «представляет собой акт, выражающий общую волю; требование законности противопоставлялось критикуемому феодальному судопроизводству, начала законности связывались с определенностью правового положения личности, с гарантией их неотъемлемых прав» [21, с. 304].
Ш.-Л. Монтескьё отмечал сложности, которые возникли в процессе правоприменения, и настаивал на соблюдении режима законности. «Судьи народа… не более как уста, произносящие слова закона, безжизненные существа, которые не могут ни умерить силу закона, ни смягчить его суровость… Природа республиканского правления требует, чтобы судья не отступал от буквы закона». Философ обращал внимание, что суд «должен действовать так же, как он действовал вчера, и чтобы собственность и жизнь граждан были столь же прочно обеспечены, как и само государственное устройство. В приговорах должна царить неизменность, так чтобы они всегда были лишь точным применением текста закона» [14, с. 222].
Данную позицию поддерживал и Г. Ф. Гегель, выступая с критикой усмотрения судьи. «Если некоторые юристы пришли к мысли, что покончить с коллизиями можно, предоставив многое усмотрению судей, то такой выход значительно хуже, так как коллизия принадлежит мысли, мыслящему сознанию и его диалектике; решение же, принятое только судьей, было бы произволом» [3, с. 249].
К. Девис также рассматривает усмотрение как негативное явление юридической практики. В ходе изучения природы усмотрения он приходит к выводу о наличии существенной суммы «ненужного усмотрения» должностных лиц в правовой системе, которая угрожает правильной реализации социальной политики. Дискреция должна быть «разрешена только в том случае, если ее осуществление находится под надлежащим контролем» и «прекращена, с тем чтобы ее использование было тщательно проверено с целью предотвращения произвола» [26, р. 55].
В отечественной правовой науке негативное отношение к усмотрению в праве высказывалось в трудах различных правоведов. Так, И. Т. Посошков обращал внимание на необходимость «строгого соблюдения законов для того, чтобы свести к минимуму элемент усмотрения». Но для этого, признавал он, нужны новые, более совершенные законы [10, с. 185].
Г. Ф. Шершеневич считал, что применение правовой нормы по началу справедливости или целесообразности уничтожит значение издания общих правил. «Правило должно быть соблюдаемо и самой властью, его устанавливающей, пока оно не будет заменено новым правилом. Если же власть, установившая правило, не считает нужным его соблюдать, а действует в каждом конкретном случае по своему усмотрению, то право сменяется произволом» [24, с. 313].
Признавая несовершенство закона, не отрицая живое посредничество суда, И. А. Покровский считает, что справедливость, культура, характер вещей и другие объективные критерии представляют собой величайшие проблемы, которые, если их передать в руки судов, могут превратиться в фикцию. Провозглашая jus natural или aequitas, тот же источник правовых норм, что и закон, и предоставив судам свободу их применения, доктрины естественного права, таким образом, невольно открыли дверь для судебного субъективизма и произвола. Он видел выход в возрождении и одухотворении законодательства, в улучшении государственного аппарата, чтобы он мог лучше воспринимать голос жизни и реагировать на него более живо [19, с. 105].
И. А. Покровский также отмечал, что расширение сферы «судейского правотворения… заключает в себе органическую и неустранимую опасность судейского произвола, и очевидно идет вразрез с интересами развивающейся человеческой личности» [18, с. 89, 105]. Кроме того, судейское усмотрение идет вразрез и с прогрессивным вектором социально-экономического развития общества.
Отрицая усмотрение, В. Ф. Тарановский обосновал свою позицию сложившейся русской действительностью. «При отсутствии прочной культурно-правовой традиции и подлинной независимости судей, – подчеркнул правовед, – не будет строго соблюдаться грань, отделяющая пробел в законодательстве от случаев применения существующего закона, и приемы свободного правотворения распространяются на все отправления суда. Тогда принцип законности, и без того у нас непрочный, был бы окончательно расшатан» [20, с. 478].
Советские правоведы также негативно высказывались относительно усмотрения, в частности в административном праве. Так, по мнению В. М. Манохина, «командно-административная система приобрела, в сущности, положение хозяина в обществе, обретя вместе с тем такие недуги, как бюрократизм, громоздкость, закостенелость организационных форм и т. п. Исходная основа таких негативных явлений в государственном управлении – усмотрение» [13, с. 27]. В. В. Демидов считает, что вынесение правоприменительных актов по усмотрению, в которых есть возможность выбора варианта поведения, – это «объективная форма проявления и нравственного, и правового нигилизма» [8, с. 7].
Сторонники позитивного отношения к усмотрению в праве считают, что возможность субъектов права действовать по своему усмотрению представляет собой условие для реализации свободы. Наиболее интересные подходы к понятию сущности свободы – диалектическая традиция и марксистский подход. Согласно диалектической традиции свобода не противоречит необ- ходимости и является осознанием, следованием и принятием необходимости.
Так, представители естественно-правовой школы права отмечали, что свобода действовать по своему усмотрению необходима для выживания. По мнению Т. Гоббса, «естественное право, называемое обычно писателями jus naturale , есть свобода всякого человека использовать собственные силы по своему усмотрению для сохранения своей собственной природы, т. е. собственной жизни, и, следовательно, свобода делать все то, что, по его суждению, является наиболее подходящим для этого» [4, с. 98].
Основополагающей идеей естественного права является соответствие предписаний позитивного права нормам естественного права, содержащихся в разуме человека (правосознании).
Интересной представляется позиция Ж.-Ж. Руссо относительно «разумного» естественного права [22, с. 400]. Основой «рационального» естественного права выступает «универсальная воля», общая для всех членов общества, которая формирует и выражает его правосознание. «Если индивид приходит к выводу о том, что законы и система органов публичной власти в целом противоречат его правосознанию, подразумевающему свободу и равенство, то он освобождается от обязанности повиноваться» [6, с. 304].
Представители социологической школы права также положительно высказывались относительно усмотрения в праве. Так, Л. Дюги писал: «Если говорят: закон обязателен только тогда, когда он соответствует современным, временным, изменяющимся условиям жизни данного общества и его строения, то тогда это, по его мнению… доктрина истинного научного духа» [9, с. 69–79]. Таким образом, возможны действия индивида против закона, т. е. по своему усмотрению, если правило поведения, установленное государством, не соответствует сложившимся общественным отношениям. В социологическом направлении право понимается в качестве сложившегося порядка общественных отношений. Таким образом, право могут создавать судьи по своему внутреннему убеждению (усмотрению).
В силу сложности правоприменительной деятельности, многообразия ситуаций социальной практики, значительного количества субъективных и объективных факторов, юрист не может избежать усмотрения при применении норм права.
Представители прагматического инструментализма (американская школа социологии права) О. Холмс, Р. Паунд, К. Ллевеллин, А. Коэн, помимо прочего, к основным своим догматическим постулатам относили следующие:
– «судьи, как и законодатели, выступают творцами права, творцы закона должны широко опираться на первоначальные и окончательные решения суда в определении подлинных интересов и намерений и при их выражении;
– судьи и другие должностные лица при толковании и применении эффективного закона должны ориентироваться на его конечную цель; судьи не должны следовать буквальному смыслу закона, а также прибегать к умозрительной логике или другим, формалистическим методам – нормы права должны интерпретироваться в свете обоснованных целей и других задач, характерных для данного закона» [5, с. 320].
На наш взгляд, отрицательное отношение к усмотрению основано на положениях юридического позитивизма, отождествлении закона с социальным феноменом, который является чисто внешним по отношению к индивиду и способен не только определять, каким должно быть поведение, но также и требовать от субъектов активных действий.
На основе интегративного (естественноправового) правового мышления проблема усмотрения может быть рассмотрена с точки зрения положительного влияния на индивидуальное правовое регулирование, это поможет учесть недостатки и снизить возможность возникновения негативных последствий.
По мнению В. С. Нерсесянца, «право не просто всеобщий масштаб и равная мера, а всеобщий масштаб и равная мера именно прежде всего свободы индивидов»; «свободные индивиды – “материя”, носители, суть и смысл права» [16, с. 27]. «Свобода возможна лишь там, где люди ее адресаты, но и творцы, и защитники. Там же, где люди – лишь адресаты действующего права, там вместо права как формы свободы людей действуют навязываемые им свыше принудительные установления и приказы отчужденной от них насильственной власти (деспотической, авторитарной, тоталитарной)» [15, с. 164].
С точки зрения естественно-правового подхода, право имеет единую и неизменную сущность в форме равенства, свободы и справедливости. Оставаясь в рамках позитивизма, не всегда представляется возможным отличить право от произвола и нигилизма, которые представляют собой его противоположность.
На основании изложенного можно сформулировать понятие «усмотрение в праве» – это деятельность субъектов права в пределах властных полномочий по выбору субъективно-оптимального решения в правотворческой, правоприменительной и правоинтерепретационной деятельности, а также результат этой деятельности (решение, мнение субъекта права), выраженный в конкретных содержательных элементах правового акта.
Список литературы О комплексном подходе к исследованию усмотрения в праве
- Аристотель. Сочинения: в 4 т. М., 1983. Т. 4. 830 с.
- Берг Л. Н. Судебное усмотрение и его пределы (общетеоретический аспект): дис.. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2008. 202 с.
- Гегель Г. Ф. Философия права. М., 1990. 524 с.
- Гоббс Т. Сочинения: в 2 т. М., 1991. Т. 2: Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. 548 с.
- Гревцов Ю. И. Энциклопедия права: учеб. пособие. СПб., 2008. 771 с.
- Гурвич Г. Д. Философия и социология права: избр. соч. СПб., 2004. 847 с.
- Гуссерль Э. Собрание сочинений: в 4 т. М., 2001. Т. 2: Логические исследования. 565 c.
- Демидов В. В. Законность в современного российском обществе: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2004. 169 с.
- Дюги Л. Общество, личность и государство. Социальное право, индивидуальное право и преобразование государства. СПб., 1914. 79 с.
- История государственно-правовых учений: учеб. / под ред. В. В. Лазарева. М., 2006. 672 с.
- Карташов В. Н. Теория правовой системы общества: учеб. пособие: в 2 т. Ярославль, 2005. Т. I. 283 c.
- Локк Дж. Сочинения: в 3 т. М., 1988. Т. 3. 668 с.
- Манохин В. М. Правовое государство и проблема управления по усмотрению // Советское государство и право. 1990. № 1. С. 23-30.
- Монтескьё Ш.-Л. О духе законов // Избранные произведения. М., 1955. С. 159-734.
- Нерсесянц В. С. Философия права Гегеля. М., 1998. 350 с.
- Нерсесянц В. С. Философия права: учеб. М., 2005. 656 с.
- Платон. Собрание сочинений: в 3 т. М., 1972. Т. 3, ч. 2. 678 с.
- Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. 353 с.
- Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е, стереотип. М., 2001. 353 с.
- Тарановский В. Ф. Учебник энциклопедии права. Юрьев, 1917. 534 с.
- Теория государства и права: хрестоматия: в 2 т. / авт.-сост. В. В. Лазарев, С. В. Липень. М., 2001. Т. 2. 604 с.
- Философия права. Курс лекций: учеб. пособие: в 2 т. / отв. ред. М. Н. Марченко. М., 2001. Т. 1. 516 с.
- Шарнина Л. А. Понятие усмотрения (дискреции) в праве. Отличия усмотрения органов власти от усмотрения граждан и юридических лиц // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 8. С. 12-17.
- Шершеневич Г. Ф. Философия права. М., 1910. Т. 1: Часть теоретическая: общая теория права. Вып. 1. 839 с.
- Экимов А. И. Интересы и право в социалистическом обществе. Л., 1984. 135 с.
- Davis K. C. Discretionary Justice: A Preliminary Inquiry. Baton Rouge: Baton Rouge City Press, 1969. 233 р.