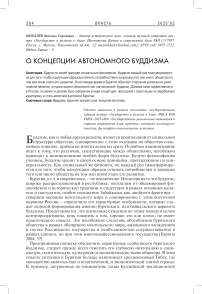О концепции автономного буддизма
Автор: Михалев М.С.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Государственно-религиозные отношения в странах Азии
Статья в выпуске: 3 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
Будучи по своей природе социальным феноменом, буддизм каждый раз трансформируется для того, чтобы наилучшим образом отвечать потребностям и запросам того или иного общества на том или ином этапе его развития. В настоящее время в Бурятии обретает очертания уникальное религиозное явление, которое можно обозначить как «автономный» буддизм. Доказав свою эффективность в России, он может и должен быть оформлен в виде концепции, пригодной к трансляции на зарубежную аудиторию, и стать визитной карточкой Бурятии.
Буддизм, бурятия, мягкая сила, внешняя политика
Короткий адрес: https://sciup.org/170210370
IDR: 170210370 | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-3-284-287
Текст научной статьи О концепции автономного буддизма
Статья написана в рамках исполнения государственного задания центру «Государство и религия в Азии» ИКСА РАН FMSF-2025-0001 «Государственно-религиозные отношения в странах современной Азии: правовые, историко-культурологические, философско-теологические аспекты».
Б уддизм, как и любая другая религия, является производной от социальной структуры общества, одновременно с этим оказывая на общество сильнейшее влияние, причем во многих аспектах сразу. Подобное взаимовлияние ведет к тому, что различия, существующие между обществами, неизбежно приводят к возникновению особых форм буддизма. Будучи философским учением, буддизм хранит в своей основе принципы, претендующие на универсальность. Как социальный же феномен, он каждый раз трансформируется для того, чтобы наилучшим образом отвечать потребностям и запросам того или иного общества на том или ином этапе его развития.
Бурятия, в т.ч. и современная, – не исключение. Несмотря на то что буддизм, широко распространенный в республике, неотделим от общемировой философской и исторической традиции и существует в рамках основных канонов и постулатов, особое положение Забайкалья как двойного фронтира – северной окраины монгольского мира и одновременно с этим восточной окраины России – определило его характерные особенности, которые служат основой формирования именно бурятского, или байкальского варианта буддизма. Представляется, что оценочные суждения по этому поводу в целом контрпродуктивны, ведь говорить о том, хорошо это или плохо, не имеет практического смысла. Это неизбежное следствие обособления бурятского общества в рамках обширного монгольского мира, вызванного вхождением в состав Российского государства и необходимостью сосуществования в рамках единого, но при этом многоконфессионального государства [Буряты 2004: 57].
Предпринимая попытку обозначить характерные особенности бурятского буддизма, следует прежде всего отметить его глубокую интеграцию в социальную, политическую, культурную и экономическую ткань общества. В этом смысле ситуация в Бурятии больше напоминает средневековый Тибет, где монашество являлось еще и политической, и экономической элитой страны. К примеру, запущенная по инициативе главы Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) Д.Б. Аюшеева кампания по увеличению поголовья мелкого рогатого скота, для которой используется эвфемизм «социальные отары», стала знаковым проектом для буддистского сообщества республики. Предполагается, что именно животноводство способно помочь бурятскому народу сохранить исконный образ жизни, а буддийская церковь должна идти в авангарде этого процесса [Хамбо-лама 2017: 101]. Найти аналоги подобной кампании в других регионах мира затруднительно.
Задачи БТСР становятся чуть более понятными, если проанализировать другие «непрофильные» виды ее деятельности. Так, бросается в глаза увлеченность руководства и рядовых членов сангхи спортивными состязаниями. В последнее время в Бурятии стало традицией проводить их именно под эгидой буддийских организаций, причем сами священнослужители часто оказываются участниками соревнований [Амоголонова 2009: 131]. Сангха не просто организует или спонсирует эти соревнования. На территории главного дацана Бурятии – Иволгинского был, например, даже построен специальный стадион для соревнований по национальным видам спорта, а высшие буддийские иерархи настаивают на том, чтобы турнирам по национальной борьбе оказывалась всевозможная поддержка со стороны рядового духовенства. Не меньшее внимание уделяется и вопросам сохранности и развития традиционной культуры в целом и бурятского языка и даже отдельных его диалектов в частности. Именно духовенство встает на защиту языка как важнейшего маркера этничности, предлагая со своей стороны конкретные планы по повышению престижа и расширению его функциональной сферы [Амоголонова 2017: 39]. В БТСР готовы даже вкладывать в этот процесс собственные финансовые и интеллектуальные ресурсы.
Все эти факты, взятые вместе, говорят о том, что БТСР под руководством Хамбо-ламы Д.Б. Аюшеева стремится позиционировать себя и действительно является ведущей и направляющей силой бурятского народа, заняв для этой цели нишу поборника и защитника его уникальной культуры. Ее практическая деятельность при этом направлена на возрождение традиционного образа жизни бурят, основанного на скотоводстве, национальных видах спорта, культуре и, конечно же, религии [Хамбо-лама… 2017: 5].
Подобным образом руководство БТСР, сознательно или по наитию, стремится к тому, чтобы буддизм действительно стал в Бурятии важнейшей силой, на которую сможет опереться государство и на основе которой регион будет развиваться в дальнейшем, при этом силой не только нравственной, но еще и политической, и экономической. В соответствии с этой не оформленной официально стратегией специфический бурятский буддизм должен стать еще и механизмом дифференциации коренного населения республики. Благодаря своей конфессиональной несхожести оно сможет сохранить свою этническую специфику и черпать силы для дальнейшего развития, причем, благодаря деятельности БТСР по защите языка, развитию национальных видов спорта и традиционного скотоводства, не только в духовной сфере, но и в экономической, и в культурной.
Задача эта обычно не свойственна буддистской церкви в других регионах мира. Буддизм чаще выступает механизмом вовлечения региона в глобальные, общемировые процессы. Глава же БТСР настаивает на том, что в Бурятии буддизм должен быть национальным и по форме, и по содержанию. Утверждается, что он идет своим путем, аналогов которому нет, и при этом он вполне самодостаточен. В этой связи бросается в глаза и отсутствие какого-либо пиетета с его стороны к фигуре Далай-ламы XIV. Хамбо-лама в своих вступлениях часто подчеркивает, что тибетский иерарх занимает в его собственной иерархии менее значительное место, чем руководитель Российского государств1. Представляется, что такое демонстративное дистанцирование от тибетского первосвященника, а также публичная критика тесно связанных с ним тибетских учителей, действующих в республике [Намсараева 2008: 73, 76], также призваны обозначить особое положение бурятского буддизма.
При этом стоит отметить, что подобное дистанцирование не является уникальным лишь для нашего времени, ведь бурятский буддизм с самого начала пользовался особым покровительством Российского государства и находился под его защитой. Встроенность в государственные структуры обеспечивала ему фактическую автокефалию в рамках глобального буддийского мира, одновременно с этим позволяя расширять свое влияние за счет использования административного и организационного ресурса [Позднеев 1887: 169170]. Со своей стороны, официальное буддийское духовенство Бурятии, всегда довольно плотно взаимодействовавшее с государственными структурами, обеспечивало властям лояльность со стороны коренного населения важного региона страны и предотвращало вмешательство в его дела со стороны внешних сил.
Своеобразная модель «автономного буддизма», контуры которой очерчиваются в наши дни в Бурятии, может стать прототипом для разработки и претворения в жизнь такой модели социально-экономического развития данного приграничного региона, которая принимала бы в расчет этнический фактор и одновременно позволяла бы укреплять внешнеполитический авторитет страны. Для этого «требуется сохранить те социальные и политические достижения, что явились следствием консолидации населения республики… но при этом дополнить их некоторыми шагами, которые смогли бы направить аккумулированный в ходе этого процесса потенциал вовне» [Михалев 2023: 393].
С этой целью успехи, достигнутые благодаря деятельности БТСР в вопросах сохранения народной культуры и языка, а также сохраняющуюся несколько веков форму взаимовыгодного сотрудничества между государством и буддийским духовенством, которая существует в Бурятии, следует сформулировать в виде уникального рецепта социально-экономического развития на основе религии. При этом данный рецепт в дальнейшем возможно «подавать» таким образом, чтобы это выглядело как ноу-хау, предназначенное на экспорт, иными словами, приступить к трансляции на зарубежную аудиторию концепции «суверенного, автономного» буддизма, который может и должен стать визитной карточкой Бурятии.