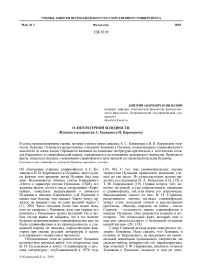О литературной холодности (Пушкин в восприятии А. Хомякова и И. Киреевского)
Автор: Кунильский Дмитрий Андреевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (108), 2010 года.
Бесплатный доступ
Славянофилы, творчество пушкина, народность, эстетика
Короткий адрес: https://sciup.org/14749712
IDR: 14749712
Текст статьи О литературной холодности (Пушкин в восприятии А. Хомякова и И. Киреевского)
Об отношении старших славянофилов А. С. Хомякова и И. В. Киреевского к Пушкину часто судят по фактам того времени, когда Пушкин был еще жив. Вспоминается обычно статья Киреевского «Нечто о характере поэзии Пушкина» (1828), его желание видеть поэта в числе сотрудников «Европейца», известные высказывания о личности Пушкина в письмах Киреевского («В Пушкине я нашел еще больше, чем ожидал. Такого мозгу, кажется, не вмещает уже ни один русский череп»1) [11; 290]. Здесь ситуация более или менее ясна, чего не скажешь о Хомякове, ведь уже первые его контакты с Пушкиным полны коллизий. Но в любом случае важно не забывать, что в тот момент будущие родоначальники славянофильства еще не были славянофилами и их принадлежность к славянской партии не являлась определяющим фактором при оценке русской литературы в целом и пушкинского творчества в частности.
Обозначенная тема не располагает большим количеством научных работ, что отмечалось еще В. И. Кулешовым в книге «Славянофилы и русская литература», опубликованной в 1976 году
[16; 94]. С тех пор славянофильские оценки творчества Пушкина привлекали внимание ученых не так часто. Из существующих можно выделить исследования В. А. Кошелева [14], [15] и Т. Ф. Пирожковой [19]. Однако вопрос этот, конечно, не новый, и уже современники, писавшие о славянофилах, так или иначе его затрагивали. Высказывание одного из них, Н. Н. Страхова, разделявшего многие взгляды славянофилов, может стать исходной точкой в рассмотрении проблемы. «Никому, впрочем, не тайна, – писал Страхов, – холодность наших славянофилов к нашему Пушкину. Она заявляется издавна и постоянно. Это печальный факт, который еще и еще раз свидетельствует о безмерной путанице нашей жизни» [24; 133].
Слова Страхова весьма верно определяют позицию Хомякова. Надо сказать, что Хомяков, в отличие от Киреевского, не предложил ни оригинальной концепции пушкинского творчества, ни сколько-нибудь развернутой его характеристики. Как отмечает Т. Ф. Пирожкова, печатных отзывов Хомякова о Пушкине «немного и они не одно- типны» [19; 138]. Так, важные высказывания из этого ряда появились как ответ на мысли, представленные в статьях В. Г. Белинского из цикла «Сочинения Александра Пушкина» (см. [10; 424]). Полемизируя с Белинским в работе «Мнение русских об иностранцах» (1846) по поводу трагедии «Борис Годунов», Хомяков замечает, что в пушкинском Годунове «преобладает эпическое начало» [26; 123]. Если учесть, как высоко славянофилы ставили эпос, «эпическое созерцание» (К. С. Аксаков), то можно судить об особой важности этих слов, которые в устах славянофильского лидера принимали характер высшей похвалы. Однако ситуацию можно толковать и по-другому. Хомяков, расходясь с Белинским в понимании центрального героя2, мог совпасть с ним в сомнениях о жанровой принадлежности произведения. «“Борис Годунов” Пушкина – совсем не драма, а разве эпическая поэма в разговорной форме», – считал Белинский [5; 427]. Хомяков, сам имевший драматургический опыт, мог предъявлять трагедии Пушкина сходные претензии, полагая, что она не вполне соответствовала законам драматического искусства.
Хомяков откликнулся и на категоричное заявление Белинского, согласно которому «в народных русских песнях, вместе взятых, не больше русской народности» [5; 364], чем в балладе Пушкина «Жених». Белинский затронул животрепещущую для славянофилов тему – тему русской народности и ее отражения в искусстве, что не могло оставить Хомякова равнодушным. Говоря о «народной поэзии», славянофильский мыслитель обмолвился, что ни Пушкин, ни Лермонтов, «кажется, даже не поняли вполне ни ее неисчерпаемых богатств, ни даже ее неподражаемого языка» [26; 125–126]. Резкость утверждения частично можно объяснить так: вопросы, которые входили в сферу непосредственных интересов московской партии, принялся обсуждать петербургский журналист и постоянный оппонент славянофилов. Другими словами, тезис Белинского имел следствием антитезис Хомякова3.
На характер приведенных высказываний Хомякова могли повлиять те сложности, что когда-то существовали в его отношениях с Пушкиным. По предположению В. А. Кошелева, на Хомякова сильно подействовала встреча с поэтом весной 1832 года, когда Пушкин, видимо, неодобрительно высказался о драме Хомякова «Димитрий Самозванец»: «Хомяков… был угнетен и расстроен этой встречей настолько, что тотчас же выехал из Петербурга в деревню – и не приезжал туда целых пятнадцать лет…» [15; 96]. Это давнее обстоятельство не помешало Хомякову в 1859 году на заседании Общества любителей российской словесности прямо назвать Пушкина гением и напомнить о «художественной красоте» его творческой деятельности [26; 310].
Столь веские слова Хомякова создают соблазн поставить эффектную точку в истории его литературных отношений с Пушкиным. И кажется, что для этого есть достаточные основания: Хомяков высказался так о значении Пушкина публично, в кругу людей, профессионально занимавшихся литературой. Но в том же 1859 году в письме к Ивану Аксакову, не соглашаясь с направленностью статьи Н. С. Соханской «Степной цветок на могилу Пушкина», Хомяков в очередной раз позволяет себе критически высказаться о личности поэта, отметив, что «способности к басовым аккордам недоставало не в голове Пушкина и не в таланте его, а в душе, слишком непостоянной и слабой или слишком рано развращенной и уже никогда не находившей в себе сил для возрождения» [25; 366].
Можно заметить, что категоричное мнение Хомякова объясняется не одним лишь полемическим задором – что-то похожее вырвалось из уст будущего славянофильского лидера в связи со смертью Пушкина в одном из писем к Н. М. Языкову: «Сам Пушкин не оказал твердости в характере (но этого от него и ожидать было нельзя), ни тонкости, свойственной его чудному уму» [23; 202]. Вообще очень характерны чувства Хомякова, вызванные дуэлью и смертью Пушкина. В четырех письмах к Языкову, где как раз обсуждались подробности трагедии, можно выделить следующие смысловые узлы.
Вне всяких сомнений, Хомяков искренне сочувствовал Пушкину и ощущал всю сложность ситуации, в которую попал поэт: «Грустное известие пришло из Петербурга. Пушкин стрелялся с каким-то Дантесом, побочным сыном голландского короля. Говорят, что оба ранены тяжело, а Пушкин кажется смертельно. <…> Причины к дуэли порядочной не было, и вызов Пушкина показывает, что его бедное сердце давно измучилось и что ему хотелось рискнуть жизнью, чтобы разом от нее отделаться или ее возобновить» [23; 202]. При всех уже существовавших к тому времени идейных расхождениях Хомяков хорошо представлял себе, какую утрату понесет русская литература с уходом Пушкина: «Бедный Пушкин! Пожалей об нем и помни, что если он умрет, так тебе надо будет вдвое более трудиться» [23; 202].
Вопрос, кто повинен в гибели Пушкина, был сразу решен Хомяковым: «Его Петербург замучил всякими мерзостями» [23; 202]. «Пушкина убили непростительная ветреность его жены (кажется, только ветреность) и гадость общества петербургского» [23; 202]. Здесь можно указать, что в своем понимании случившегося Хомяков уже близок к славянофильскому комплексу идей. Немаловажным ему казалось, что несчастье произошло не где-нибудь, а именно в Петербурге, кроме того, одной из конфликтующих сторон выступил большой свет, в делах которого принимала участие и жена Пушкина. Таким образом, в письмах Хомякова совершенно отчетливо проявляются взгляды, которые впоследствии станут для славянофилов определяющими: антипатия к Петербургу и критическое отношение к «свету».
И все-таки в гибели поэта было виновно не только петербургское общество. Такая развязка, по мнению Хомякова, отчасти была обусловлена поведением самого Пушкина, который «себя чувствовал униженным и не имел ни довольно силы духа, чтобы вырваться из унижения, ни довольно подлости, чтобы с ним смириться» [23; 202]. «Он отшатнулся от тех, которые его любили, понимали и окружали дружбою почти благоговейной, а пристал к людям, которые его принимали из милости. Тут усыпил он надолго свой дар высокой и погубил жизнь, прежде чем этот дар проснулся (если ему было суждено проснуться)» [23; 202– 203]. Как это ни странно, Хомяков сомневается даже в истинности дарования Пушкина – момент довольно-таки показательный, происшедшее для него всего лишь «жалкая репетиция Онегина и Ленского, жалкий и слишком ранний конец»4 [23; 202]. Через некоторое время после смерти Пушкина Хомяков вновь вспомнит о ней в письме к тому же адресату: «Какова жалкая судьба Пушкина! Убит дрянью, и дрянь Полевой в дрянной Библиотеке вызывает на какую-то дрянную подписку в честь покойника!» [23; 203]. Но так ли далеко от презираемого им Полевого оказался Хомяков в своей оценке случившегося? В статье-некрологе «Пушкин» Полевой замечал: «Не теперь, когда и дерном не покрылась еще свежая могила чудесного певца, не теперь говорить о жизни Пушкина, беспрерывной ошибке, смеси неба с землею, решительности гения с недоверием человека к самому себе, гордой мечте и бедной существенности. <…> Увлеченный мечтами юного и пламенного воображения, он истратил первый цвет жизни на эти безрассудные мечты» [20; 274–275]. В сущности, Хомяков и Полевой говорили об одном и том же, только Полевой не погнушался фразами, эпатирующими публику, – взять хотя бы слова о жизни Пушкина как «беспрерывной ошибке».
Называя Пушкина, а вместе с ним и Державина « великими лирическими поэтами и полными представителями своего современного отечества», Полевой рассуждал: «Обоих захватил к себе свет и погубил их как поэтов. Оба увлеклись пылкостью своих впечатлений в чуждую для себя сферу и не могли осуществить всей своей самобытности» [20; 280]. Может быть, Хомякова в первую очередь и раздосадовало близкое совпадение с журналистом «Библиотеки для чтения» – слишком схожие мысли были высказаны обоими авторами. Как бы то ни было, важно, что Хомяков, сам того не желая, в некоторых суждениях сошелся с одним из самых яростных в тридцатые годы критиков Пушкина.
Очевидно, что неоднозначное отношение к Пушкину сопровождало Хомякова до конца жизни, причем его упреки были вызваны как творчеством, так и бытовым поведением поэта. В числе причин, повлиявших на позицию Хомякова, современные исследователи рассматривают факт публичного чтения Пушкиным и Хомяковым своих трагедий в 1826 году в Москве с разницей в день, когда одна и та же аудитория слушала «Бо- риса Годунова» и «Ермака» и отдала предпочтение первому. При всей авторской объективности и благородстве Хомякова все-таки нельзя исключить здесь некоторого состязательного момента, связанного с обстановкой, которая противопоставляла писателей друг другу. Ситуацию усугубило равнодушие Пушкина к следующей драме Хомякова «Димитрий Самозванец», о чем говорилось выше. Вероятно также, что житейское поведение Пушкина, сопровождавшееся многочисленными анекдотами, Пушкин в жизни казались славянофилам серьезным основанием оставить без внимания многие его произведения. Об этом свидетельствуют цитированные письма Хомякова. Кроме того, Хомякову как человеку крепких нравственных устоев просто могли быть не близки многие пушкинские герои, лишенные положительного содержания и смысла жизни. Напряженность в какой-то мере снимается, если вспомнить склонность Хомякова к диалектической постановке проблемы, что выразилось, к примеру, в статье «О старом и новом», где речь шла о самых заветных его убеждениях.
Интересное свидетельство, касающееся творческих взаимоотношений Пушкина и Хомякова, оставила дочь последнего Мария Алексеевна: «А<лексей> С<тепанович> прекрасно читал стихи Пушкина, помню, как он чит<ал>, напр<имер>, его “Обвал”, его “У берегов отчизны дальней”, <а> “Сижу у окошка темницы сыр<ой>” и до сих пор в моих ушах: “Мы вольные птицы, туда, брат, туда, туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляем лишь ветер да я…”
Как он любил тоже “Монастырь на Казбеке”. Сам он очень дорожил мнением Пушкина и говорил, что Пушкин очень любил его “Не сила народов тебя возвела, не воля чужая венчала…”» [27; 185–186]. Воспоминания дочери Хомякова о взаимной симпатии двух поэтов были записаны ею достаточно поздно, в пожилом возрасте, когда многое уже стерлось из памяти. Мария Алексеевна неточно называет стихотворения Пушкина и говорит о стихотворении Хомякова «Еще об нем», которое Пушкин прочитать никак не мог, поскольку оно было написано уже после его смерти, в 1841 году, что неоднократно отмечалось исследователями. Кроме того, укажем еще на одну деталь, которая могла повлиять на характер воспоминаний. Немаловажным представляется, что работа над воспоминаниями началась не ранее 1890-х годов (такую датировку предлагает их публикатор Е. Е. Давыдова). В 1880 году в Москве состоялись Пушкинские торжества, во время которых И. С. Аксаков, так сказать, ввел Пушкина в славянофильскую семью, провозгласив его «первым истинно-русским поэтом» [4; 279]. В последующих печатных выступлениях на страницах «Руси» Аксаков считал возможным подкреплять свои мысли «“славянофильством” наших лучших поэтов, в том числе и Пушкина» [2; 328]. Такая позиция друга отца, последнего из классиков славянофильства, могла иметь влияние на М. А. Хомякову, в радужных красках описавшую взаимоотношения Пушкина и Хомякова. Сам Хомяков был твердо убежден, что на творчество Пушкина нанесла неизгладимый отпечаток та «духовная болезнь», что «истекала из разрыва между просвещенным обществом и землею» [26; 315]. Да, Хомяков рассудочно понимал величие Пушкина, отдавал должное его художественному мастерству, и нет оснований сомневаться, что он любил отдельные стихотворения Пушкина. Однако художника, который бы мог воплощать национальную идею хотя бы в сфере искусства, Хомяков в Пушкине не видел. Показательно в этом случае молчание Хомякова о произведениях Пушкина, где возникали близкие славянофилам темы. Любопытно было бы узнать мысли славянофильского лидера о «Медном всаднике» или «Песнях западных славян»5. В 1861 году, через год после смерти Хомякова, Достоевский, как будто опровергая его мнение о Пушкине, писал в первой статье «Книжность и грамотность»: «Отбросим все, самое колоссальное, что сделал Пушкин; возьмите только его “Песни западных славян”, прочтите “Видение короля”: если вы русский, то вы почувствуете, что это в высочайшей степени русское, не подделка под народную легенду, а художественная форма всех легенд народных, форма, уже прошедшая через сознание поэта и, главное, – в первый раз нам поэтом указанная» [9; 15]. Следующая статья Достоевского «Последние литературные явления. Газета “День”» была посвящена непосредственно полемике со славянофилами.
Более ровное и уважительное, по сравнению с хомяковским, отношение к Пушкину наблюдается в печатных выступлениях И. В. Киреевского, автора известных работ «Нечто о характере поэзии Пушкина» (1828) и «Обозрение русской словесности 1829 года» (1830), ставших ценным материалом для последующих критиков и исследователей пушкинского творчества. Поскольку они написаны в дославянофильскую пору жизни Киреевского, здесь нет необходимости разбирать их подробно, однако некоторые положения этих статей нуждаются в огласке. Прежде всего, обращает на себя внимание периодизация творчества Пушкина, предложенная молодым автором, и, конечно, название третьего периода – «период поэзии русско-пушкинской» («Нечто о характере поэзии Пушкина») [11; 38]. Так Киреевский определил высшую фазу развития пушкинской поэзии, которая, по его мнению, многими своими чертами соответствовала русскому характеру. Важными составляющими третьего периода Киреевский считал сцену в Чудовом монастыре из трагедии «Борис Годунов», особенно фигуру летописца Пимена, и образ Татьяны («Характер Татьяны есть одно из лучших созданий нашего поэта») [11; 39]. Примечательно, что спустя годы после несправедливых отзывов славянофилов о Пушкине И. Аксаков в своей речи на Пушкинском празднике будет гово- рить об особом значении именно этих героев великого поэта.
В другой своей крупной работе, «Обозрение русской словесности 1829 года», Киреевский делит русскую литературу XIX века «на три эпохи, различные особенностью направления каждой из них, но связанные единством их развития» [11; 41]. Пушкин в глазах автора – представитель третьей эпохи, его творчество характеризуется ключевым для Киреевского понятием «действительности». «Мы видели, что одно стремление воплотить поэзию в действительности уже доказывает и большую зрелость мечты поэта и его сближение с господствующим характером века»6, – писал Киреевский [11; 48]. Пушкин виделся ему главой современного периода русской литературы и художником, чья «поэзия действительности» выражала дух времени.
Но логично спросить, не отказался ли Киреевский от этой концепции пушкинского творчества под влиянием славянофильских идей? Ответ может быть найден во второй части «Обозрения современного состояния литературы» (1845), явившегося уже из-под пера Киреевского-славянофила. Считая нужным специально высказаться о позиции журнала «Маяк», Киреевский в том числе затрагивает и «пушкинский вопрос», который регулярно обсуждался на страницах этого издания. «Маяк», по словам Киреевского, «думает оказать великую услугу словесности, уничтожая вместе с “Отечественными записками” еще и то, что составляет славу нашей словесности. Так, доказывает он, между прочим, что поэзия Пушкина не только ужасная, безнравственная, но что еще в ней нет ни красоты, ни искусства, ни хороших стихов, ни даже правильных рифм» [11; 164]. Несогласие автора с мнением петербургского журнала очевидно.
Далее Киреевский вспоминает время, которое было «не очень давно», когда «для мыслящего человека возможно было составить себе твердый и определенный образ мысли» [11; 168] с помощью западных интеллектуальных систем. Особую смысловую нагрузку в данном контексте несут следующие слова Киреевского: «По этой причине литература наша могла иметь полный смысл до конца жизни Пушкина и не имеет теперь никакого определенного значения» [11; 169]. Здесь возможны два варианта понимания. Если сократить фразу, отбросив начало предложения «по этой причине», получится чрезвычайно высокая оценка роли Пушкина в развитии русской словесности и полное уничижение современного состояния последней. В эпоху Пушкина, как считал Киреевский, подражательность была оправдана и допустима, поскольку (попробуем продолжить мысль критика) она способствовала развитию русской литературы. Но теперь наступает иное время – время «жизни действительной», время творчества на основе жизни. Учитывая былые мысли Киреевского о «поэзии русско-пушкинской», о стремлении Пушкина «во- плотить жизнь в действительности», можно предположить, что тогда для него Пушкин был выше своего времени и принадлежал будущему.
Следует подчеркнуть, что предложенный вариант прочтения возможен только, если мы вспомним давние статьи Киреевского, где шла речь о Пушкине. Однако текст рассматриваемой работы 1845 года не дает повода интерпретировать направление мысли Киреевского именно так. Славянофильский автор не вспоминает в связи с размышлениями о «жизни действительной» собственного утверждения о стремлении Пушкина « воплотить поэзию в действительности ». Вероятно, взгляды Киреевского на самобытность в искусстве и на художников-выразителей этой самобытности становились более строгими. В числе других славянофилов он ждал начало нового периода в национальном самосознании и литературе. Примерно в то же время Гоголь, которого нельзя упрекнуть в недоброжелательном отношении к Пушкину, и чье мнение не могло быть для славянофилов безразличным, говорил: «Нет, не Пушкин и никто другой должен стать теперь в образец нам: другие уже времена пришли. <…> Христианским, высшим воспитаньем должен воспитаться теперь поэт» [6; 407–408]. Сопоставление высказываний Киреевского и Гоголя, их перекличка и совпадение, делает второй вариант понимания слов славянофильского автора более предпочтительным7. В дальнейшем К. С. Аксаков в «Обозрении современной литературы» (1857) предельно конкретизирует позицию славянофилов, называя Лермонтова «последним русским поэтом отвлеченной подражательной эпохи» [3; 329]. Если развивать мысль Аксакова, получается, что Пушкин также принадлежал к этой подражательной эпохе. Остается добавить, что в 1845 году Киреевский особенно остро чувствовал себя выразителем партийных интересов, поскольку в то время был редактором журнала «Москвитянин», где и опубликовал свое «Обозрение современного состояния литературы».
При взгляде назад, на молодые годы И. В. Киреевского, обращает на себя внимание еще одна страница его биографии – то мощное влияние, которое в 1820–30-х годах он оказывал на формирование идей русской философской эстетики. Исследователь этого явления Ю. В. Манн имел все основания говорить о «существовании некоего порога, через который не могла пройти философская эстетика» [17; 92], – имелась в виду рецепция творчества зрелого Пушкина. Правда, Киреевский-критик проявил несоизмеримо большую чуткость в отношении к Пушкину нежели, скажем, Н. И. Надеждин, но ни тот, ни другой не сумели оценить по достоинству «онегинского прозаизма» [17; 40]. В последующей работе, непосредственно посвященной Киреевскому, Ю. В. Манн так определяет литературные воззрения уже славянофильски расположенного мыслителя: «И. Киреевский… ожидал от Гоголя “совершенного переворота в нашей литературе”. Гоголь призван распространить влияние русской народности на всю словесность, что Крылов мог сделать лишь в ограниченной “басенной сфере”. А как же Пушкин? Пушкин, который в 1830 году был объявлен Киреевским знаменем нового этапа русской литературы, теперь утратил свое ключевое место в его эстетических построениях» [18; 58].
Итак, убеждениям славянофилов далеко не во всем соответствовали не только произведения, но и человеческие качества Пушкина. Достаточно вспомнить письма Хомякова Языкову и И. Аксакову, написанные в разное время. Особо следует подчеркнуть, что и отношение Киреевского к Пушкину было не таким безоблачным, каким оно подчас описывается в современной научной литературе. По крайней мере, Киреевский, в прошлом автор замечательной статьи о Пушкине, в 1845 году не совсем ясно отзывается о значении поэта для русской литературы.
Известно, что понимание важности православия для русской культуры скрепляло славянофильский кружок и не ставилось под сомнение ни одним из его представителей. На основании ключевых публицистических и литературно-критических работ славянофилов, а также их писем правомерно сделать вывод, что христианского поэта в Пушкине они не видели8. Неслучайно Хомяков, Киреевский, Аксаковы в своих сочинениях говорят только о художественных достоинствах или недостатках пушкинских произведений и обходят вниманием их духовное содержание. Даже пушкинский «Пророк», по мнению Хомякова, «бесспорно великолепнейшее произведение русской поэзии, получил свое значение… по милости цензуры (смешно, а правда)»9 [25; 366]. Напротив, Гоголь более соответствовал славянофильским представлениям о христианском художнике. Так, в связи с кончиной Гоголя Вера Аксакова записала в дневнике: «Гоголь – святой человек по своему стремлению» [8; 27]. Сам образ жизни Гоголя был понятен и К. Аксакову: «Взглянув на свой талант как на долг, возложенный на него от Бога, как на новую обязанность быть еще строже в жизни, он соединил свое вдохновение с молитвой, и жизнь свою повел он сурово, беспрестанно поддерживая, продолжая внутреннюю неослабную борьбу со всеми недостатками человека сперва внутри себя, а потом уже вне» [3; 229]. На этом фоне весьма выразительными кажутся слова Хомякова о «слишком рано развращенной» душе Пушкина.
«…Писать о Пушкине – значит писать о целой русской литературе», – сказал Белинский [5; 81]. В отношении славянофилов к Пушкину выразилось их отношение ко всей русской литературе того времени. Пройдут годы, станет иной литература, эволюционирует и славянофильское движение. В дальнейшем И. С. Аксаков синтезирует и переосмыслит идеи старших славянофилов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 09-04-95583 М/Мл.
Список литературы О литературной холодности (Пушкин в восприятии А. Хомякова и И. Киреевского)
- А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М.: Худож. лит., 1985. Т. 2. 575 с.
- Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России? М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2002. 1008 с.
- Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1995. 526 с.
- Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М.: Современник, 1982. 183 с.
- Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. М.: Худож. лит., 1981. Т. 6. 678 с.
- Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 1-14. [М.; Л.]: Изд-во АН СССР, 1952. Т. 8. 816 с.
- Дмитриев А. П. Духовные пастыри XIX века об А. С. Пушкине//Духовный труженик А. С. Пушкин в контексте русской культуры. СПб.: Наука, 1999. С. 137-142.
- Дневник Веры Сергеевны Аксаковой (1854-1855)/Ред. и прим. кн. Н. В. Голицына и П. Е. Щеголева. СПб., 1913. 174 с.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1979. Т. 19. 360 с.
- Егоров Б. Ф. Комментарии//Хомяков А. С. О старом и новом: Статьи и очерки. М.: Современник, 1988. С. 415-449.
- Киреевский И. В. Избранные статьи. М.: Современник, 1984. 383 с.
- Котельников В. А. Достоевский и Иван Киреевский//Русская литература. 1981. № 4. С. 57-76.
- Кошелев В. А. Пушкин и Хомяков//Временник Пушкинской комиссии. Л.: Наука, 1987. Вып. 21. С. 24-40.
- Кошелев В. А. Алексей Степанович Хомяков, жизнеописание в документах, в рассуждениях и разысканиях. М.: Новое литературное обозрение, 2000. 512 с.
- Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература. М.: Худож. лит., 1976. 288 с.
- Манн Ю. В. Русская философская эстетика (1820-1830-е годы). М., 1969. 304 с.
- Манн Ю. В. Эстетическая эволюция И. Киреевского//Киреевский И. В. Критика и эстетика. М.: Искусство, 1979. С. 7-59.
- Пирожкова Т. Ф. «Живая связь любви» (о речи И. С. Аксакова на пушкинских торжествах 1880 г.)//Е. Р. Дашкова и А. С. Пушкин в истории России. М.: МГИ им. Е. Р. Дашковой, 2000. С. 130-141.
- Полевой Н., Полевой Кс. Литературная критика: Статьи, рецензии 1825-1842. Л.: Худож. лит., 1990. 592 с.
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 1-16. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 11. 588 с.
- Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851-1860 годах. М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1925. 140 с.
- Русский архив. 1884. Кн. III. № 5.
- Страхов Н. Н. Литературная критика. М.: Современник, 1984. 431 с.
- Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М.: Типо-литография Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1904. Т. 8. 468 с.
- Хомяков А. С. О старом и новом: Статьи и очерки. М.: Современник, 1988. 462 с.
- Хомякова М. А. Воспоминания об А. С. «Хомякове» (публикация и комментарии Е. Е. Давыдовой)//Хомяковский сборник. Томск: Водолей, 1998. С. 173-204.