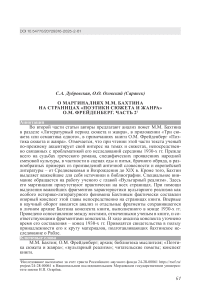О маргиналиях М. М. Бахтина на страницах «Поэтики сюжета и жанра» О. М. Фрейденберг. Часть 2
Автор: Дубровская С.А., Осовский О.О.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 2 (73), 2025 года.
Бесплатный доступ
Во второй части статьи авторы предлагают анализ помет М.М. Бахтина в разделе «Литературный период сюжета и жанра», в приложении «Три сюжета или семантика одного», в примечаниях книги О.М. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра». Отмечается, что при чтении этой части текста ученый по прежнему акцентирует свой интерес на темах и сюжетах, непосредственно связанных с проблематикой его исследований середины 1930-х гг. Прежде всего на судьбах греческого романа, специфических проявлениях народной смеховой культуры, в частности в сценах еды и питья, брачного обряда, в разнообразных примерах из произведений античной словесности и европейской литературы - от Средневековья и Возрождения до XIX в. Кроме того, Бахтин выделяет важнейшие для себя источники в библиографии. Специальное внимание обращается на работу ученого с главой «Вульгарный реализм». Здесь его маргиналии присутствуют практически на всех страницах. При помощи выделения важнейших фрагментов характеристики вульгарного реализма как особого историко литературного феномена Бахтиным фактически составлен опорный конспект этой главы непосредственно на страницах книги. Впервые в научный оборот вводится анализ и отдельные фрагменты сохранившегося в личном архиве Бахтина конспекта книги, выполненного в конце 1930-х гг. Проведено сопоставление между местами, отмеченными ученым в книге, и соответствующими фрагментами конспекта. В ходе анализа конспекта уточнено время его составления - конец 1930-х гг. Приводятся свидетельства в пользу принадлежности его к кругу материалов, подготавливающих бахтинское исследование о Рабле.
М.м. бахтин, о.м. фрейденберг, архив, библиотека мыслителя, «поэтика сюжета и жанра», «вульгарный реализм», читательские пометы, конспект книги
Короткий адрес: https://sciup.org/149148632
IDR: 149148632 | DOI: 10.54770/20729316-2025-2-61
Текст научной статьи О маргиналиях М. М. Бахтина на страницах «Поэтики сюжета и жанра» О. М. Фрейденберг. Часть 2
M.M. Bakhtin; O.M. Freidenberg; archive; thinker’s library; “Poetics of Plot and Genre”, “vulgar realism”, reader’s marginalia; book synopsis.
Продолжая изучение маргиналий М.М. Бахтина на страницах монографии О.М. Фрейденберг, во второй части статьи мы сосредоточимся на карандашных пометах ученого, сделанных им по ходу чтения раздела «Литературный период сюжета и жанра», приложения «Три сюжета или семантика одного» и примечаний.
В предшествующей части нашей работы была дана общая характеристика исследуемого источника, описана техника бахтинского чтения и ее результаты в целом, продемонстрированы наиболее выразительные примеры бахтинских маргиналий в разделах «Проблема работы и ее литература», «Долитературный период сюжета и жанра». Особое внимание уделялось сопряженности отмеченного Бахтиным с идеями, прозвучавшими в его текстах конца 1930-х – начала 1970-х гг. [Дубровская, Осовский 2024].
В данной статье наша задача заключается не только в описании продолжения бахтинской работы над книгой Фрейденберг, но и в предварительном анализе того, как отмеченные Бахтиным фрагменты монографии «Поэтика сюжета и жанра» коррелируют с составленным им конспектом книги.
Приступая к чтению третьего раздела «Литературный период сюжета и жанра», Бахтин обращает особое внимание на моменты, связанные со становлением и развитием форм греческой литературы, их жанровой спецификой и сюжетным наполнением. Работая со знакомым ему еще со времен ученичества у Ф.Ф. Зелинского материалом античной литературы, Бахтин выделяет фрагменты текста монографии, касающиеся соотношения фольклорного и литературного начал в эпосе, своеобразного «сдвига в сознании», который «вызывает срыв былого смысла»:
Во-первых, приходит в столкновение мышление понятиями, формально-логическое мышление, с примитивно-диалектическим, с мышлением образами; во-вторых, культовая установка заменяется аристократической, классовой. Отсюда – те два смысла, та двойственность, которая поражает при взгляде на эпическую культуру; с одной стороны, описания подлинных битв, подлинных людей, подлинного домашнего быта, социально верные картины родового уклада, – и, с другой, в полной сохранности мифический рисунок [Фрейденберг 1936, 257–258] (далее страницы этого издания указываются в тексте в круглых скобках).
Первая фраза отчеркнута четырьмя линиями, последующие – семью.
Выделение иных пассажей Бахтиным позволяет говорить о том, что он целенаправленно создает имплицитный конспект книги. Так, в главе «Эпика» Бахтин отчеркивает семью линиями рассуждения Фрейденберг о слиянии эпического жанра с фольклорными и литературными (от заплачки и пословицы до этнографической поэмы). В этом фрагменте ему близко замечание о трех вариантах представления смерти:
…жанры, имеющие композицию сошествий и восшествий, останавливаются особенно охотно на всякого рода спусках в преисподнюю и любят давать описания стран смерти, ее жителей и их нравов. Представление о смерти как о странствии создает, рядом с этим, возможность изобразить длинный ряд путешествий. Наконец, образ смерти-поединка прибавляет третий вариант к хтоническим жанрам – приключение и подвиг (С. 267).
В неменьшей степени Бахтина интересуют и наблюдения автора монографии над спецификой греческого романа, о чем писала И.А. Протопопова [Протопопова 1995]. Неоднократно повторявшаяся Фрейденберг мысль о близости отдельных элементов греческой словесности, в частности ряда традиционных сюжетов евангельскому мифу, также отчеркнута Бахтиным от четырех до семи линий. Это касается и сюжета о въезде в Иерусалим, и общих размышлений о страстях Господних (С. 273). При этом для Бахтина важны конкретные примеры сопоставлений в тексте книги. Приведем фрагмент, отчеркнутый шестью линиями, и позднее включенный в конспект:
Элемент страстей переоформляет и перекрывает более древний элемент подвигов (в христианской литературе – деяний); внутренняя увязка – результат единства литературного процесса – соединяет греческий любовный роман с евангелическими страстями, с одной сторо- ны, с жанром деяний, с другой, с житиями святых и мученичествами, с третьей (С. 273).
Пятью линиями отмечает Бахтин и упоминание Фрейденберг евангельских страстей как жанра, их сходство с элементами других жанров – комедии и романа: автор монографии выделяет присутствующие в евангельских страстях сцену брака, эпизод с глумлением над узником, шутовски переодетым царем (С. 274). Своеобразный диалог-перекличка с этими фрагментами прозвучит в «Формах времени и хронотопа в романе» – в части, посвященной герою «Золотого осла» [Бахтин 1996–2012, III, 377]. В этом контексте логично напомнить и о мысли Бахтина о «влиянии античной и евангельской традиции» увенчания и развенчания, отзывающихся в романе Рабле [Бахтин 1996–2012, IV(I), 187].
Особое внимание Бахтина привлекает параграф, в котором речь идет о греческом романе как жанре и его «увязке с лирикой и драмой» (C. 274–277). Отмеченные в нем рассуждения Фрейденберг о том, что жанр «складывается общественным мышлением» (C. 274), частично войдут в конспект книги. Как мы уже указывали в первой части нашей статьи, «размышления автора о роке и судьбе как о новой форме древней смерти отчеркиваются двенадцатью линиями» [Дубровская, Осовский 2024, 38] – самым большим количеством помет, сделанных Бахтиным во всей «Поэтике сюжета и жанра». В бахтинском конспекте этот фрагмент будет воспроизведен в полном объеме [Бахтин [вторая половина 1940-х], 17 об.].
В главе «Лирика» основное внимание Бахтин сосредоточивает на моментах, связанных со смеховой традицией. Хотя до окончательного формирования концепции народной смеховой культуры исследователю еще далеко [Попова 2009; Паньков 2009; Дубровская 2014], акцентированный интерес к этой проблеме у Бахтина-читателя присутствует. Так, фрагмент о мотиве питья и веселья у античных поэтов он отчеркивает четырьмя линиями (С. 289).
Отметим, что Бахтин внимателен и к «идеологическому обеспечению», к которому прибегает Фрейденберг в своих рассуждениях. В частности, он отчеркивает пятью линиями отсылку к Ф. Энгельсу:
Энгельс показал, что до начала средних веков не могло быть никакой индивидуальной любви и что даже «классический поэт любви древности, старый Анакреон» поет не о любви, а о том «эросе», который ничего не имеет общего с нашим понятием любви. Греческая лирика качественно отличается от лирики европейской, и напрасно буржуазная наука сделала из нее какую-то внеисторическую категорию (С. 289).
Однако в данном случае интерес к классику марксизма в работе самого Бахтина продолжение не получил (по крайней мере, в бахтинском конспекте книги Фрейденберг она не встречается; см.: Бахтин [вторая половина 1940-х]) в отличие от случаев, когда «понравившиеся» Бахтину цитаты инкорпорировались им в собственный текст [Дубровская, Осовский 2020].
Наибольшее внимание Бахтин уделяет главе «Вульгарный реализм» (C. 291–334). Исходя из количества помет на этих страницах, можно утверждать, что ученый прорабатывал материал максимально тщательно. Конкретное количество линий, сопровождающих тот или иной фрагмент, дает возможность определить его значимость не только для Бахтина-читателя, но и для Бахтина-исследователя. О серьезности и вдумчивости подхода Бахтина в данном случае свидетельствует и то, насколько внимательно он прорабатывает представленную в примечаниях литературу по проблеме, сопровождая отчеркиваниями (от двух до семи линий) чуть ли не каждый из приведенных источников (С. 422–426).
Предположим, что сюжет о вульгарном реализме в бахтинском фрагменте «К вопросам теории романа» является своего рода ответной репликой в диалоге мыслителя с автором «Поэтики сюжета и жанра» [Бахтин 1996–2012, III, 567]. Прослеживая движение античной словесности к бытовой прозе, Фрейденберг обозначает основные характеристики и признаки существенно важного для нее феномена. По ее мнению, «вульгарный реализм» определяет движение европейской прозы чуть ли не до новейшего времени (С. 306). Этот фрагмент Бахтин отчеркивает семью линиями, как и фрагмент, описывающий грубо реалистическое изображение актов еды и питья в сцене «Пира Тримальхиона» у Петрония (С. 315). Эти размышления Фрейденберг перекликаются с тем, что пишет о «Сатириконе» Петрония в «Формах времени и хронотопа в романе» сам Бахтин [Бахтин 1996–2012, III, 384].
Еще более значимо для Бахтина в этом контексте фрейденберговское понимание пародии и ее места в низовом пласте античной словесности. Бахтин отчеркивает девятью линиями фрагмент, содержащий развернутый экскурс с замечаниями об универсальности пародии:
Не удивит нас и то, что пародию мы встретим рядом со всеми актами жизни – со свадьбой, похоронами, рождением, отправлением правосудия, торговлей, управлением и т.д. И главным образом – рядом с актом еды. В этом отношении характерна средневековая «обедня обжор» (С. 306).
Отметим перекличку этого наблюдения Фрейденберг с бахтинскими построениями, связанными с проблемами средневековой пародии и сатиры, в частности в его статье для «Литературной энциклопедии». В ней отмечается обжорство и пьянство в общем ряду подвергающихся осмеянию пороков, представленных во всем многообразии пародийно-сатирических жанров:
Сатирическое творчество средних веков было чрезвычайно разнообразно. Кроме богатейшей пародийной литературы (имевшей безусловное сатирическое значение) сатирический элемент проявлялся в следующих основных формах: 1) дурацкая сатира, 2) плутовская сатира, 3) сатира обжорства и пьянства, 4) сословная сатира в узком смысле, 5) сатирическая сирвента [Бахтин 1996–2012, V, 26].
Неслучайно появление у Бахтина в этом контексте жанра плутовской сатиры и фигуры плута. Они, как можно предположить, возникают не без влияния Фрейденберг. Отчеркивая в книге четырьмя линиями первый абзац, открывающий фрагмент, посвященный плутовскому роману, Бахтин отмечает последующие рассуждения восемью чертами. Здесь для него важно буквально все – начиная от специфики композиции плутовского романа и заканчивая многообразием плутовских персонажей античной комедии и их трансформациями в серьезной (трагедия) и комической (пикареска) версиях:
Его композиция <…> Это аспект двойника, смерти, и первыми слугами-пикаро, мошенниками и плутами, являются именно боги, как Гермес и даже Зевс. Поэтому история такого божества имеет всегда два оформления, два будущих жанра. В трагическом, серьезном (рыцарский роман) – это жертва, которая переживает «деяния», «мытарства», переходы и перипетии, – словом, пассии; в комическом (плутовской роман) – это слуга и шут, который подвержен переменам бытия и авантюрам (С. 328–329).
Не менее важно для Бахтина и погружение Фрейденберг в специфику вульгарного реализма европейской пикарески, наследующей соответствующие античные традиции. Его в равной степени интересуют и фиксируемое исследовательницей значение мест и ролей персонажей, и выстраивающиеся в плутовском романе ряды еды и питья, мотивы испражнения и др., которые воспринимаются как формы обновления.
На принципиальность следующего фрагмента для Бахтина указывают десять отчеркиваний:
Смена мест, положений и лиц в gusto picaresco не является случайной игрой авторского замысла. Первоначальный сюжет требует серии перипетий, и так как его основная семантика заложена на образе обновляющей смерти, то и вся его структура неизбежно отливается по стереотипу готовых метафорических схем (С. 331).
Еще более важными становится для Бахтина финал главы. Эти две с половиной страницы сопровождаются практически непрерывным отчеркиванием – от пяти до одиннадцати линий. Отмечая пятью линиями абзац, посвященный месту фольклора в сознании писателей различных эпох, Бахтин особо выделяет (десять линий) объяснение тех задач, которые Фрейденберг стремилась достичь на данном этапе исследования:
…во-первых, показать, что «пользование фольклором» представляет собой проблему художественного сознания, а во-вторых, охарактеризовать фольклорность сюжета и жанра как исторических и специфических явлений литературы на одном из ее крупных этапов (C. 332–333).
О том, насколько важна для Бахтина заключительная часть главы «Вульгарный реализм» свидетельствует характер ее конспектирования. Абзац, предваряющий заключение главы и иллюстрирующий мысль о том, что авторы начинают понимать вульгарный реализм или в виде сатиры, или в виде «зеркала жизни», в котором должны отражаться одни пороки, в саранском экземпляре книги отчеркнут восемью линиями. В конспекте Бахтин дает его тезисное изложение: «Для вульгарного реализма характерно изображение одних пороков. Герои “Манон Леско”: трогательная любящая женщина, но кокотка; возвышенный юноша, но шулер» [Бахтин [вторая половина 1940-х], 31 об.].
Итоги главы – страницы 332–334 монографии – воспроизведены Бахтиным дословно, при этом каждый абзац в тексте конспекта ограничен кавычками [Бахтин [вторая половина 1940-х], 31 об. – 34]. Возможно, ученый предполагал использовать их в качестве отдельных цитат.
Работа с текстами конспектов в отделе рукописей Российской государственной библиотеки дала возможность уточнить время создания конспекта и тем самым откорректировать предположения, высказывавшиеся в первой части нашей статьи. Сегодня можно со значительной долей уверенности сказать, что конспект книги создавался Бахтиным не ранее 1938 г., исходя из времени изготовления, указанного на обложках трех тетрадей, в которых законспектированы первые 218 страниц книги Фрейденберг. Определение времени заполнения еще одной (фактически четвертой) тетради конспекта не представляется обоснованным. По-видимому, датировка (вторая половина 1940-х гг.) основана на послевоенном происхождении газетного листа, в который обернута обложка этой тетради. Анализ содержания позволяет утверждать, что эта тетрадь является неотъемлемой частью единого конспекта. Об этом, в частности, свидетельствует и то, что она начинается с 219-й страницы «Поэтики сюжета и жанра», тогда как предшествующая (третья) тетрадь заканчивается цитатой со страницы 218. Таким образом, перед нами – четыре части единого конспекта (всего 82 листа текста), что соответствует устоявшейся технике работы Бахтина, для которого характерно размещение тех или иных материалов в нескольких тетрадях. Оставшуюся часть четвертой тетради Бахтин заполняет другими записями, в частности опубликованным И.Л. Поповой конспектом книги Э. Кассирера [Бахтин 1996–2012, IV(I), 785–828].
Очевидно, что при подготовке конспекта Бахтин работал с другим – не саранским – экземпляром книги Фрейденберг. Тем примечательнее то, насколько воспроизводимые в конспекте пассажи совпадают с местами, отчеркнутыми им при чтении книги в Саранске. Известны и другие факты работы ученого с разными изданиями интересующего его текста. Так, в личной библиотеке Бахтина имелся 5-й том собрания сочинений А. Бергсона, содержавший, в частности, трактат «Смех» [Дубровская, Осовский 2025]. В 1957 г. в руки Бахтина попадает «Современная книга по эстетике», где также опубликованы фрагменты этого трактата, примечательно, что при чтении Бахтин отчеркивает в новом издании те же места.
При чтении книги Фрейденберг в Саранске Бахтин уделил немалое внимание и приложению – написанной в 1925 г. статье «Три сюжета или семантика одного» (С. 335–361). Его особое внимание привлек фрагмент, посвященный проблеме конкретных сюжетных аналогий в европейской литературе. Одиннадцатью линиями ученый отчеркивает:
Итак, что же мы добыли из этих аналогий? Ровно ничего, если только не считать того, что этим аналогиям противоречит. Гассан рассказал нам, что ‘горбун’ дублер ‛мужа’ в его хтонической функции; что ‛брачная постель’ дубликат ‛могилы’, а ‛таинственная страна’ – ‛смерти’; словом, что один и тот же образ резко варьирует язык своих метафорических транскрипций. Ксаилун, который в акте реновации избавляется от глупости, как муж в Декамероне от ревности, дал нам вариант мотива усмирения и перехода в противоположное состояние. Столяр, вместе с Гассаном и с еврейской сказкой, принес в виде завязки мотив пиршества. Наконец, – и это главное – почти все приведенные сюжеты неразрывно слили мотив перехода из яви в сон или из жизни в смерть с мотивом брачного соединения. Два сюжета в пьесе Шекспира, «жизнь есть сон» и история брака героини, органично еди- ны. И получается, что аналогии пригодились нам тем, что принесли ряд отличий, которые привели нас к единству (С. 342).
Интересует Бахтина и финал раздела. Его пометы на полях содержат от четырех до шести линий. Так, ответ Фрейденберг на сформулированный ею же вопрос – «Где тот единый сюжет, который “дифференцировался” или “развился” в серию подобных ему сюжетов?» – он отмечает четырьмя линиями: «Проделанный анализ показал, ни такого образа “в чистом виде”, ни такого сюжета в качестве “источника” нет и никогда не существовало» (С. 369).
Мысль Фрейденберг о том, что «старая категория мышления, даже в области идеологии имеющая свою систему привилегии, заменяется той, где ни одна из величин не доминирует над другой» (С. 359–360), сопровождается пятью отчеркиваниями. Максимальным количеством линий – шестью – отмечен абзац, завершающий приложение:
Но несомненно одно: XIX в., с которого начинается новая общественно-экономическая эра, проходящая под знаком капитализма, индивидуализма и частной свободной инициативы, является конечной границей готового сюжета и началом сюжета свободного (С. 361).
Примечательно, что в конспекте Бахтин ограничивается только воспроизведением названия приложения и части источников, размещенных в постраничных ссылках. Конспект – результат повторного чтения. Иногда в нем выделяются эпизоды, не отмеченные при чтении в Саранске. Возможно, некоторая перестановка акцентов в конспекте объясняется тем, что в 1930-х гг. конспектирование подчинено бахтинскому интересу к Рабле, на что указывают имеющиеся на нескольких страницах пометы-комментарии – «См. рот, проглатывание и чрево у Раблэ» [Бахтин [не ранее 1938], 10] (подчеркнуто Бахтиным – С.Д., О.О. ); «См. загадки и гаданья у Раблэ» [Бахтин [не ранее 1938], 32 об.] и др.
Подводя итоги нашей работы, подчеркнем, что Бахтин в ходе чтения всей книги обращает особое внимание на наблюдения Фрейденберг, перекликающиеся с его собственными идеями; продолжает выделять фрагменты, которые могут служить иллюстрациями к его предположениям. При этом Бахтина интересуют примеры не только из древних литератур, но и из европейской словесности – от Средневековья и Возрождения до XIX в. Сохранившийся в архиве мыслителя конспект книги Фрейденберг позволяет утверждать, что этот подход Бахтин реализует при последующей проработке книги.
Таким образом, диалог с Фрейденберг становится важным источником для разработки ученым не только отдельных аспектов его концепции народной смеховой культуры в исследовании о Рабле, но и размышлений о характере развития романа на его ранних стадиях в работах о теории романа конца 1930х гг.