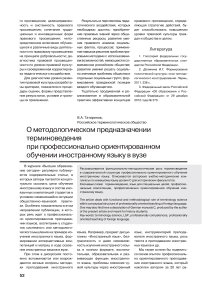О методологическом предназначении терминоведения при профессионально ориентированном обучении иностранному языку в вузе
Автор: Татаринов Виктор Андреевич
Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday
Рубрика: Психолого-педагогический форум
Статья в выпуске: 3, 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается функционально-методологическая роль терминоведения в содержательной структуре профессионально ориентированного обучения иностранному языку. Описываются авторские учебно-методические комплексы по немецкому языку уровня С для исторических факультетов.
Терминоведение, язык для специальных целей, профессиональные компетенции, профессионально ориентированное обучение иностранному языку
Короткий адрес: https://sciup.org/148320719
IDR: 148320719
Текст научной статьи О методологическом предназначении терминоведения при профессионально ориентированном обучении иностранному языку в вузе
языка. Например, предмет дисциплины «Иностранный язык», безграничность и даже невозможность изучения иностранного языка в полном формате, воспитательная, образовательная и развивающая функции иностранного языка, проблемы освоения чужой культуры через иностранный язык, инструментарий преподавателя иностранного языка, роль текста в преподавании иностранных языков и др.
Мы также хотели бы поделиться своим опытом профессионально ориентированного преподавания иностранного языка, который накоплен автором за 20 лет ра- боты над проектом по созданию учебных пособий по немецкому языку для исторических специальностей вузов. Проектом занималась научно-общественная организация «Российское терминологическое общество» (РоссТерм), а апробация пособий осуществлялась на историческом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Были изданы два учебно-методических комплекса (два учебника уровня С), аудиокурс, пособие по переводу, четыре словаря [4-6, 8, 9, 11, 12]. В настоящий момент мы ведем работу (проект) над учебно-методическим комплексом для богословских отделений вузов в составе «Учебника богословского перевода. Немецкий язык» и уже изданного «Немецко-русского научно-богословского словаря» [7].
В настоящей статье мы ограничимся комментированием основной методологической и дидактико-эвристической идеи учебнометодического комплекса. А что касается структуры и содержания учебников и словарей, они включают в себя все необходимые лингвистические, дискурсивные и профессионально-отраслевые компоненты. Основным же дидактико-гносеологическим изобретением проекта была максима обязательного методологического базирования процесса обучения иностранному языку в условиях компетентностного подхода в современной методике. В качестве такой базовой методологии профессионально ориентированного преподавания иностранного языка была избрана сравнительно новая научная дисциплина - терминоведение.
Уверенность в выборе методологии обосновывалась тем, что автор статьи является специалистом не только по обучению иностранному языку, но и теоретиком-терминологом. Поэтому в тончайших нюансах на большом историческом материале может отслеживать пути вза имодействия терминоведения и методики преподавания иностранного языка.
Когда речь идет об обучении профессии, мы имеем в виду выработку у субъекта таких профессиональных компетенций, умений и навыков, которые формируют совершенно иное качество человеческой сути - переводят его с уровня бытовой экзистенции на уровень специализированной категориальной деятельности. Выработка в субъекте профессионального категориального поведения - весьма сложный и длительный процесс. Поскольку в нашей стране сложилась положительная традиция сопровождения профессионального роста посредством изучения иностранных языков, мы приобщили эту традицию к освоению профессии историка в годы студенчества в максимально возможных объемах.
Продолжим тему. Что происходит с мыслительными процессами студента, когда он переходит от чтения текстов общелитературного содержания к работе над профессионально ориентированными текстами (естественно, в наших учебниках подбор текстов, заданий и упражнений осуществлен согласно общедидактическим законам в последовательности уровней образования от А1 к С1 и С2 - от начального уровня к наивысшему)? Студент видит знакомые слова, но удивляется их странному употреблению в тексте (особенно специфике сочетаемости слов и невозможности подобрать соответствующую сочетаемость на русском языке). Это состояние будет постоянно сопровождать студента на всем протяжении изучения иностранного языка и даже потом в условиях дальнейшей профессиональной деятельности. Отнесем это на счет двух генеральных психолингвистических проблем. Студент входит в систему до этого неизвестных ему концептуально-категориальных сценариев избранной профессии и не может мгновенно осо знать особенности лингвистического воплощения этих сценариев на иностранном языке, поскольку языковые формы профессионального знания он в достаточной степени еще не освоил и на родном языке. Умолчим о том, что рефлексия по поводу этих когнитивных механизмов появляется у студентов в единичных случаях, развивать же ее очень сложно и затратно по времени.
Студент, попадая в иную профессионально-языковую среду, не владея в полной мере аналогичной картиной мира на своем родном языке, постоянно находится в условиях эффектов па-ронимической аттракции: диапазон парономазии достаточно широк - от общенаучных терминов до узкоспециальных. Студент положительнее прореагирует, например, на слова «позиционирование» и «локализация», нежели на их исконный синоним «место» с прозрачной общелитературной внутренней формой. Как показывают наши словари, таких паро-нимических для восприятия терминов, особенно в гуманитарном тексте, довольно много. В них заключена великая проблема онтогенетической терминологизации общелитературной лексики: переход с конкретно бытового значения на уровень оперирования им (значением) в абстрактном научном смысле.
При погружении в иностранный текст студент постоянно находится в лингвистическом шоке как вынужденный участник этих трансформаций. Пути терминологизации слов с общеупотребительной семантикой в иностранном языке, как правило, иные. Внутренняя форма языка (известно со времен В. Гумбольдта) в специальных текстах имеет весьма изощренные (особенно с точки зрения студента) формы, не говоря уже о различиях во внешних формах терминов. За мою продолжительную практику еще никто из студентов-историков не смог перевести очень прозрачный исто- рический термин «Fenstersturz» (дефенестрация).
Парадоксально, но чем прочнее у студента знания в области общелитературной лексики, тем сложнее ему уходить от мотивационной системы литературного языка и входить в лингвопонятийный континуум языка, ориентированного профессионально.
К тому же многие термины, сходные по форме в разных языках, не коррелируют друг с другом по содержанию и объему обозначаемых ими понятий. Кто из студентов не спотыкался о термин «neuere Geschichte»: почему сравнительная степень, а в немецком тексте речь идет еще о какой-то другой новой истории. Студент почему-то уверен, что он знает, что такое «новая история», а предположить, что термины могут иметь в разных языках не только несовпадающую словообразовательную историю, но и быть амбисемичны-ми (т.е. разнозначными), не может.
Серьезным вопросом в этом педагогическом контексте должно быть осознание того, что степень симулятивности (подражания естественным жизненным ситуациям) при работе со студентами на занятиях по иностранному языку все-таки должна быть максимальной. Так, в издании «Учебнике немецкого языка: с основами научного перевода» [11] (книга для историков) вполне преодолимыми для уровня С1 (3-й курс) оказались следующие модули: история как наука (Geschichte als Wissenschaft), предмет истории (Gegenstand der Geschichtswissenschaft), философские течения в истории (Philosophische Stromungen in der Geschichtswissenschaft), методы и методология истории (Methoden und Methodologie der Geschichtswissenschaft), историография (Historiografie), хронология (Chronologie), специальные дисциплины (Spezialdisziplinen), история искусств (Kunstgeschichte) и др. Важными являются следующие модули уровня С2 в учебнике для искусствоведов [12]: основные понятия истории искусств (Grundbegriffe der Kunstgeschichte), история искусств во взаимодействии с реальной историей (Kunstgeschichte in der Wechselwirkung mit der realen Geschichte), отношение искусства к другим областям духовной жизни человека (Das Verha-Itnis der Kunst zu anderen Gebieten des menschlichen Geisteslebens), методы искусства (Methoden der Kunstgeschichte), основные направления художественноисторического анализа произведения (Schwerpunkte einer kunsthistorischen Analyse des Kunstwerks) и др.
Все тексты для модулей аутентичны. Это своего рода реализация текстоцентричного подхода в преподавании иностранного языка. В предисловии к учебнику немецкого языка [11] говорится: «Включение того или иного текста в учебник осуществлялось по следующим критериям: научности текста, стилистической и гносеологической безупречности, креативности материала, проблемности, информативности и лингводидактической целесообразности. Изучениевсейсовокуп-ности текстов учебника позволяет выработать у студента систему лингвопонятийных алгоритмов чтения и перевода исторического текста, развить способность к созданию исторического текста на немецком языке как с использованием приобретенного понятийно-терминологического аппарата немецкоязычного исторического дискурса, так и с умением порождать новые исторические категории в русле немецкого менталитета. При этом следует иметь в виду, что тексты учебника не являются антологией заявленных в учебнике тем: лингводидактическая целесообразность в учебнике преобладает» [11, с. 4].
Особенно важными в поддержании интереса к иностранному языку и его естественного жизненного статуса при работе над описываемыми учебно-методическими комплексами были задания по написанию терминологических заметок, рецензий, рефератов и переводу немецких изданий, которые публиковались в издававшихся Российским терминологическим обществом журналах и сборниках «Терминоведение», «Терминоведение и профессиональная лингво-дидактика», «Терминологический вестник», «Русский исторический вестник», «Русский филологический вестник» и др. Ряд серьезных публикаций студентов включены и в изданные учебники.
Важным является также участие студентов в работе над лексикографической частью учебнометодического комплекса. Это поурочные словари в учебниках и самостоятельно изданные двуязычные учебные словари, которые перечислены в библиографии. Мы планируем отдельную публикацию о создании, задачах и функциях лексикографического компонента учебнометодического комплекса, так как это весьма обширный материал. Сейчас ограничимся квинтэссенцией словаря из предисловия к изданию «Немецко-русский исторический словарь»: «Таким образом, в руках у пользователя словаря оказывается своего рода лингвистическая модель языка историка, пишущего по-немецки, в ее эквивалентном воспроизведении на русском языке. Наличие такой исходной модели позволит начинающему историку адекватно воспринимать исторические тексты и тем самым успешно расширять в дальнейшем свой научнопонятийный аппарат» [6, с. 6].
В названных в библиографии пособиях по переводу и по терминоведению [4, 10] студент может более подробно ознакомиться со всеми вопросами, которые так или иначе содержатся в учебниках.
Теперь осведомленный читатель уже сам может делать вывод о том, какова же методологическая роль терминоведения в профессионально ориентированном преподавании иностранного языка. Выше речь шла о том, что профессионально ориентированное обучение иностранному языку вносит вклад в процессы становления, взращивания и образования научного мышления и научного сообщества, т.е. в воспитание результативного научного работника. Эта задача весьма актуальна для современной России. Иностранный язык - это обязательная общенаучная дисциплина в вузах нашей страны, она охватывает своей креативностью и проблематикой все специальности и профессии, а значит, может быть задействована для развития методологического мышления у студентов всех специальностей.
Еще 200 лет назад основатели философии науки В. Уэвель (17941866) и Дж.Ст. Милль (1806-1873) начинали с тончайших наблюдений над терминологией. Определяя язык как универсальную среду бытия человека, философы науки смотрели и на профессиональную мысль как на субстанцию, формирующуюся в языке. Приведу несколько их тонких высказываний, которые были путеводными регу-лятивами для многих поколений креативно мыслящих ученых. Вот как оценивал становление научного мышления В. Уэвель: «Большая часть читателей, вероятно, держится того убеждения, что всякий писатель должен довольствоваться употреблением обыкновенных слов в их общепринятом значении, и чувствует отвращение к техническим терминам и произвольным правилам фразеологии, как к педантизму и напрасной путанице. Однако кто только возьмется за улучшение какого-нибудь отдела науки, тот сейчас же увидит, что без технических терминов и твердых правил не может быть надежного или прогрессивного знания. Неопределенный и детский смысл обыкновенного языка не может обозначать предметы с твердою точностью, необходимой при научном исследовании, и воз водить их от одной ступени обобщения к другой. Для этой цели может служить только крепкий механизм научной фразеологии... Когда изучающий ботанику научится думать на ботаническом языке, то ему не покажется ненужным отличием, когда ему скажут, что кисть не есть гроздь, т.е. “thyrus” отличен от “racemus”; тогда он сам почувствует, что терминология ботаники есть полезное орудие, а не напрасное бремя» [2, с. 75-76]. Спустя 80 лет Ж.А. Пуанкаре пишет: «Вот объект, о котором ничего нельзя было сказать, пока он не был окрещен; достаточно было дать ему имя, чтобы произошло чудо. Каким образом это происходит? Это происходит потому, что, давая ему имя, мы тем самым неявно утверждаем, что объект существует (т.е. свободен от всех противоречий) и что он полностью определен» [2, с. 103].
Немецкий профессор Л. Оль-шки (1885-1961)специально для начинающих ученых писал о высоком уровне лабильности научного мышления, как бы предполагая эту трудность восприятия научного текста, особенно иностранного. С помощью критерия лабильности он оценивает научные заслуги Д. Бруно: «У Бруно совершенно нет новообразованного или целесообразно нюансированного термина, который обозначал бы новое философское сознание или остроумно резюмировал бы какую-нибудь теорию... Одинаково нецелесообразно как искать у него терминологических новообразований, так и задним числом создавать их для объяснения его теории... Большая часть этих слов, а равным образом и многие другие, обретшие снова благодаря одной только орфографии свой латинский характер, не имели целью ни новых оттенков в значении слова, ни нового этимологического воскрешения его». Вывод Л. Ольшки: «В научной терминологии происходит изменение значения слов, так что обыкновенно не смеши вают атомов Демокрита ни с химическими, ни с электрическими атомами» [3, с. 67].
Приведенные цитаты ученых и наши размышления о сути педагогического процесса по преподаванию иностранного языка говорят однозначно в пользу интеграции этих мыслительных сфер. К настоящему времени уже определен научный предмет дисциплины, которая называется терминоведением. Вся проблематика терминоведения, которая входит в комплекс вопросов, освещающих процессы преобразования бытового мышления в мышление профессиональное, образует совокупный предмет терминоведения как научной дисциплины [10]. В настоящей статье была предпринята попытка показать, как стратегическое объединение терминоведения и лингводидак-тики улучшает преподавание языка для специальных целей в вузе.
Таким образом, терминоведческое базирование учебнометодических комплексов для профессионально ориентированного обучения профессиональному иностранному языку в вузе выполняет (хотелось бы верить) основные лингвопедагогические, лингвоконцептуальные и социокультурные функции. В целом можно говорить о новом, шестом, поколении учебников иностранного языка. Благодаря этим учебно-методическим комплексам преподаватель иностранного языка [ср.: 1] получил методологически фундированные и самодостаточные учебники для выработки общеевропейских компетенций владения иностранным языком уровня С2 (например, таких как свободно понимать все типы текстов любой сложности, выражать в диалоге любые оттенки значения, уметь писать резюме и рецензии на работы профессионального характера и др.). Студент благодаря учебнику осваивает как лингвистические особенности языка профессии, так и сложную систе- му профессиональной концептуальной категоризации в родном и иностранном языках. Он уже на студенческой скамье полностью формирует адаптационные социальные механизмы для вхождения в самостоятельную профессиональную жизнь как высокообразованная, креативная, иннова-цивно мыслящая личность.