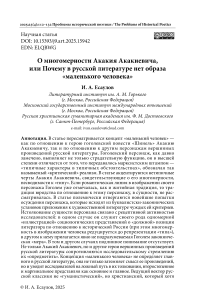О многомерности Акакия Акакиевича, или Почему в русской литературе нет образа «маленького человека»
Автор: Есаулов И.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 4 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье пересматривается концепт «маленький человек» — как по отношению к герою гоголевской повести «Шинель» Акакию Акакиевичу, так и по отношению к другим персонажам вершинных произведений русской литературы. Гоголевский персонаж, как давно замечено, выполняет не только страдательную функцию, он в высшей степени отличается от того, что передавалось марксистским штампом — «типичные характеры в типичных обстоятельствах», обозначая так называемый «критический» реализм. В статье акцентируются нетипичные черты Акакия Акакиевича, свидетельствующие о его многомерности, несводимости к «типу». Если романтическая линия в изображении своего персонажа Гоголем уже отмечалась, как и житийная традиция, то традиция юродства по отношению к этому персонажу, в сущности, не рассматривалась. В статье полемически отвергаются новейшие попытки осуждения персонажа, которые исходят из буквалистски-законнических установок приложения к художественной литературе чуждых ей критериев. Истолкование сущности персонажа связано с рецептивной активностью исследователей: в одном случае он служит своего рода одномерной «иллюстрацией» социологических представлений о «должной» позиции литератора по отношению к исторической России (при этом многомерность в изображении человека редуцируется до репрезентации «типа»), в другом к нему прилагается явно не подразумеваемая Гоголем законническая «мера». В том и другом случаях подлинное понимание отсутствует. Не только Акакий Акакиевич, но и другие герои вершинных произведений русской литературы сопротивляются исследовательскому стремлению их «опредметить». Концепция «маленького человека» не определяет главного в русской литературе, она не только затемняет смысл ее произведений, но и уводит исследователей на ложный путь в их толковании, второстепенное и маргинальное представляя как основное и главное. Ведущий вектор русской классики не «гуманистический», но христианский, который хотя и осложнен парафрастическим соединением православного предания с европейской культурой, но в своей глубине отечественная классика наследует все-таки именно православной традиции, в пределах которой «маленького человека» быть не может, ибо она — христоцентрична.
Русская литература, аксиология, христианская традиция, юродство, Гоголь, повесть, «Шинель», антропология, маленький человек
Короткий адрес: https://sciup.org/147252379
IDR: 147252379 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15942
Текст научной статьи О многомерности Акакия Акакиевича, или Почему в русской литературе нет образа «маленького человека»
А какию Акакиевичу суждена была долгая посмертная жизнь — не только в повести «Шинель», но и в разнообразных, иногда взаимоисключающих, ее интерпретациях. Чаще всего ему приходилось быть своего рода наглядным пособием, или, другими словами, смиренно репрезентировать образ некоего «маленького человека». И это обозначение, отсутствующее в самом гоголевском тексте, Акакий Акакиевич принимал с таким же смирением, как и то, что сослуживцы «сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом» [Гоголь: 143].
Но если в повести Гоголя персонажу в конце концов удалось-таки поймать за воротник то «значительное лицо» [Гоголь:
163], которое его так сильно обидело, то со странной репутацией «маленького человека» (которую он приобрел в нашем филологическом цехе), дело обстоит куда более печально. Полагаю, что пришло время освободить, наконец, Акакия Акакиевича от этой этикетки (или, лучше сказать, клейма).
Гоголевский персонаж — именно в силу своей многомерности — отнюдь не соответствует этой словесной этикетке. И дело не только в том, что «генеральская шинель» оказалась ему в итоге, как подчеркивается в тексте, « совершенно по плечам» (курсив мой. — И. Е. ) [Гоголь: 173]. Вспомним при этом, что генерал-то был отнюдь не «маленьким»: он имел « богатырскую наружность» (курсив мой. — И. Е. ). Но и этого богатыря-генерала наш персонаж «поймал за воротник» [Гоголь: 173], что вряд ли было бы по силам Акакию Акакиевичу, оставайся он сам «маленьким человеком». Дело, однако, и не в том только, что смиреннейший персонаж оказывается сначала бунтарем, а затем и мстителем.
Дело в том, что есть еще более существенное обстоятельство, не позволяющее Акакия Акакиевича так характеризовать: в отличие от всех своих товарищей, сослуживцев-чиновников, он и в своей земной жизни имел одну особенность.
Его литературные сотоварищи — Евгений из «Медного всадника», Самсон Вырин из «Станционного смотрителя» — еще могут, хотя и с некоторой натяжкой, о которой ниже, воплощать определенный «типаж». А вот у гоголевского персонажа, помимо низкого — в социальном отношении — чина титулярного советника, который он сам же решительно не желал повышать, имеется и нечто необыкновенное: свой собственный иной мир , максимально далекий от прозаической повседневности.
Если другие чиновники — филистеры, обыватели, то Акакий Акакиевич — романтик , наследующий именно романтической традиции. Этим он, как романтик, и отличается от «толпы».
«Он не думал вовсе о своем платье <…>. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на т о, чт о делается и происходит всякий день на улице, на чт о̀ , как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник…» [Гоголь: 145].
Переписывание для него не внешняя «служба», но погружение в особую вселенную:
«Там <…> ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир…» [Гоголь: 144].
Он любит (вполне бескорыстно, до самозабвения) сам процесс письма , живет им:
«Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами…» [Гоголь: 144].
Никакого прагматического смысла эта любовь (как и всякая настоящая любовь) не имеет. Как мы помним, иной раз Акакий Акакиевич и у себя дома «снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя» [Гоголь: 145].
Если «чиновный народ» после службы предается пошлому досугу, как и полагается «толпе» в романтических произведе-ниях1, романтик Акакий Акакиевич еще не подозревая, что его «назначат» маленьким человеком, продолжает жить в совершенно другом измерении, в другом мире2, и «когда всё стремится развлечься», «написавшись в-сласть , он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то Бог даст переписывать завтра» (курсив мой. — И. Е .) [Гоголь: 146]. И, что особенно важно подчеркнуть, Акакий Акакиевич, « умел быть до вольным свои м жребием» (курсив мой. — И. Е .) [Гоголь: 146].
Романтические черты гоголевского персонажа были уже справедливо отмечены в свое время (см.: [Манн, 1978: 384–386], [Маркович: 81–87]). К сожалению, это не привело исследователей к переосмыслению того, что, со ссылкой на В. Г. Белинского3, и было названо «маленьким человеком».
Так что мы имеем все основания подчеркнуть: если «маленькому человеку» полагается «репрезентировать» жизнь определенного слоя общества, то гоголевский персонаж замечателен ровно противоположным : он резко выделяется из общего ряда как в своей земной жизни, так и в посмертном существовании.
Нельзя не сказать и о том, что в нашем литературоведении с некоторого времени стала проявляться и другая тенденция — сурового осуждения Акакия Акакиевича (см., например: [Бухар-кин], [Виноградов]). Это может показаться скверным анекдотом, но попрекают его именно за шинель , за то, что, гоголевскими словами, «перед самым концом жизни» у него «мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь…» (курсив мой. — И. Е. ) [Гоголь: 169].
Согласно назидательно-законнической логике, слишком уж Акакий Акакиевич прилепился к своей новой шинели, слишком уж радуется ей, а надо бы, очевидно, оставаться «маленьким человеком» и символизировать угнетенный народ своим старым капотом , зачем он не замерзает в нем насмерть? Зачем он вместо этого так доволен своей новой шинелью, прямо-таки как «подругой» [Гоголь: 154], зачем любуется «сукном и подкладкой» [Гоголь: 158] — вместо того, чтобы углубиться в духовные запросы? Зачем так возлюбил земное, что после обретения новой шинели «после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посибаритствовал4 на постели, по ка не потемнело» [Гоголь: 158]?
Самого Н. В. Гоголя, который лучшие годы своей жизни провел в роскошной Италии и любил пить кофе в Греко , лучшей римской кофейне, отчего-то не попрекают «земным, слишком земным», а вот его персонажа попрекают — шинелью 5: то есть тем, что у него единственно-то и появилось — как защита от «сильного врага всех получающих четыреста рублей в год жалования» [Гоголь: 147].
Такого рода филологическое законничество, суть которого — инкриминировать и без того обижаемому Акакию Акакиевичу еще и бездуховность6, сближается с претензиями Ма кара
Девушкина, который желал бы прямого назидательного авторского добавления: мол, почему бы не показать прямо, что персонаж «верил в Бога и умер <…> оплаканный» [Достоевский: 63].
«Значительное лицо», генерал, и тот «скоро по уходе бедного распеченного в-пух Акакия Акакиевича почувствовал что-то вроде сожаления. Сострадание было ему не чуждо; его сердцу были доступны многие добрые движения <…>. …он решился даже послать к нему чиновника узнать, чт о он и как, и нельзя ли в самом деле чем помочь ему» [Гоголь: 171]. С позиций же филологического законничества (см. типологически сходный вариант: [Есаулов, 2008: 628–660]) несчастный Акакий Акакиевич распекается даже и за «какую-то даму», за которой было «побежал было вдруг» персонаж [Виноградов: 230] «неизвестно почему», невзирая на то, что «однакож он тут же остановился и пошел опять по-прежнему очень тихо (курсив мой. — И. Е. )» [Гоголь: 160], то есть преодолел искушение. Можно сказать, вспомнив гоголевский текст, в осуждении героя доминирует «строгость, строгость и — строгость» [Гоголь: 164].
Между тем помимо романтической линии, резко осложняющей «страдательную» функцию героя, в гоголевской повести имеется и еще одна традиция, на которую неоднократно обращалось внимание, — житийная (см., например: [Driessen], [Турбин: 82], [Гончаров: 160]). Наиболее концептуально убедительно ее проводит В. М. Маркович, подчеркивая в персонаже «очевидную предызбранность для будущего жизненного пути, безбрачие, отказ от жизненных благ и мирских соблазнов, исполнение черных работ, бегство от суеты, уклонение от любых возможностей возвышения, уединение, молчание, непреоборимую внутреннюю сосредоточенность на своей задаче» [Маркович: 83].
Конечно, эти житийные черты так или иначе осложняются и трансформируются (см., например: [Дилакторская: 163–165]), как это вообще происходит чаще всего в художественной литературе Нового времени (см.: [Есаулов, 2005, 2009]). Однако же укорять Акакия Акакиевича тем, что в отличие от святого Акакия (из сорока мучеников Севастийских), он обрел новую шинель, а не замерз насмерть в старой, как замерзли мученики во льду Севастийского озера [Виноградов: 231], вряд ли продуктивно. Кажется, никто ведь и не утверждал, что гоголевский Акакий Акакиевич — святой, речь идет исключительно о наследовании художественным текстом Гоголя житийной традиции, а не о законническом назидательном «примере», прямой иллюстрации катехизиса.
Вот только какой именно житийной традиции наследует в данном случае Гоголь? По-видимому, речь идет о традиции юродства [Есаулов, 2017: 385–409], которой наследует и другой известный переписчик (и опять отнюдь не «маленький человек») — князь Мышкин (см.: [Есаулов, Тарасов, Сытина: 73–101]). У М. Н. Эпштейна имеется давняя работа, где, при сопоставлении этих двух переписчиков, удачно сформулировано, что они представляют собой «вариацию одного типа» [Эпштейн: 80], — вот только какого именно «типа» (помимо общей любви к переписыванию)? По-видимому, это особый тип смиренного юродства7.
Какова цель юродивого? Живя в «аду» здешнего падшего мира, заставить плакать над смешным, а тем самым содействовать спасению души; не только собственной, но, прежде всего, своих падших братьев во Христе. Достигается ли это в «Шинели»?
На «значительное лицо» происшествие с шинелью оказало «сильное впечатление» [Гоголь: 173]; используя другую терминологию, оно его вразумило . Но то же самое можно сказать и об «одном молодом человеке», который «по примеру других, позволил было себе посмеяться» над Акакием Акакиевичем, но затем, «как будто всё переменилось перед ним и показалось в другом виде» [Гоголь: 143–144]. Итак, «мертвые» прежде «души» персонажей оживали: и решающей причиной тому становится именно Акакий Акакиевич.
Замечу, что и косноязычие гоголевского персонажа часто являлось также особенностью как раз юродивых . Так, осколок этого косноязычия, от которого не избавился и посмертно Акакий Акакиевич, мы видим в последней в тексте тираде персонажа: «…наконец я тебя того , поймал за воротник» (курсив мой. — И. Е .) [Гоголь: 172]. Собственно, по этому слову — «того» — и можно вербально опознать в покойнике Акакия Акакиевича8. Так что затруднения с речью (не только устной, но и письменной — потому Акакий Акакиевичу и сложно «переменить кое-где глаголы из первого лица в третье» [Гоголь: 144]) — в русской культурной традиции вполне может отсылать читателя к косноязычию юродивых.
Теперь вернемся к той словесной этикетке, которая в нашем литературоведении обрела статус термина, — «маленький человек». Словарная статья с таким названием, за авторством Ю. В. Манна, имеется в «Литературной энциклопедии терминов и понятий» (а также в Большой российской энциклопедии). В качестве опоры на предшественников указан Белинский. В качестве примеров приводятся как раз «Шинель», «Станционный смотритель, «Бедные люди» (см.: [Манн, 2001]).
Однако сам историко-литературный материал (во всяком случае, в русской литературе) сопротивляется тесной увязке «психологии героя» с его «положением в социальной иерархии» [Манн, 2001]. Например, уже у Пушкина Самсон Вырин, помимо понятного читательского сочувствия, также обнаруживает некую многомерность, не случайно в эпиграфе к повести из стихотворения «Станция» П. А. Вяземского «коллежский регистратор» иронически подан как «почтовой станции диктатор» (пушкинский же герой вполне всерьез и пытается стать подобным «диктатором» судьбы дочери, будучи не готов «отпустить» свою «заблудшую овечку», не желая принимать ее собственного счастья с Минским). Самсон Вырин потому неправ, что пытается законническими лекалами мерить судьбу собственной дочери, ориентируясь на самом деле не на евангельскую притчу — с ее чудом возвращения, — а на ее оскопленное, обрезанное, законническое, бюргерское подобие на немецких картинках: для него собственная дочь — не личность, которая может все-таки быть счастливой с любимым и любящим человеком, а всего только дочь станционного смотрителя, т. е. определяется лишь своей социальной ролью. Однако ни он сам, ни его дочь этой «ролью» не определяются и к ней не сводятся (см.: [Есаулов, 2012]; подробнее: [Есаулов, 2020a]).
Другой пушкинский персонаж — Евгений из «Медного всадника» — в своем «бунте» бросает вызов Петру как воплощению государственности, он становится в один ряд с бунтующими волнами, то есть с хтоническим хаосом, грозящим в поэме Пушкина великолепному имперскому Петербургу. Хотя для Евгения в равной мере враждебными оказываются как бушующая водная стихия, так и жестко усмиряющая ее неподвижная твердь, символом которой является «лик державца полумира» [Пушкин: 395], однако же нельзя не отметить, что бунт Евгения направлен не на «древнего душегубца», а именно на его усмирителя. Евгений в момент бунта становится союзником «разъяренных вод»: угрозу Петру «шепнул он, злобно задрожав» (ср. «…злые волны, / Как воры, лезут в окна»; «Еще кипели злобно волны») [Пушкин: 395, 387, 390]. Герой, страданиям которого невозможно не посочувствовать, одновременно изображается Пушкиным и «как обуянный силой черной», тогда как Петр, напротив, ассоциируется с противоположным духовным вектором («строитель чудотворный») [Пушкин: 395]. Не случайно венчающая «град Петров» «Адмиралтейская игла» — в отличие от «тьмы ночной» — «светла» [Пушкин: 381]. В этом же духовном контексте дерзновенно реализованная Петром возможность для России
«Ногою твердой стать при море» [Пушкин: 381] означает предельное обострение жесткого противоборства света и тьмы. Водная стихия, которая сравнивается со зверем («…ревела, / Котлом клокоча и клубясь, / И вдруг, как зверь остервенясь, / На город кинулась» [Пушкин: 386]), требует для себя столь же мощного противодействия и усмирения. Побежденная некогда Петром стихия моря грозит взять реванш («Пред нею / Всё побежало, всё вокруг / Вдруг опустело» [Пушкин: 386]). Тогда как Евгений впадает в гибельное оцепенение и бездействие, поддавшись «зверю»: «…как будто околдован, / Как будто к мрамору прикован, / Сойти не может» [Пушкин: 389]. Однако — это ясно уже из «Вступления» — возможный реванш будущей стихии моря равнозначен духовному поражению России. Устойчивость и неколебимость «Петра творения» именно та «твердыня» России, которая противостоит неуправляемой стихии — с ее «бездной», «мраком» и «мглой»: «…стой / Неколебимо, как Россия, / Да умирится же с тобой / И побежденная стихия» [Пушкин: 381–382] (см. подробнее: [Есаулов, 1994]).
Редукция героев Пушкина, Гоголя и Достоевского до «маленького человека» была призвана акцентировать жестокий социум, показать персонажей в качестве жертв «недолжной» русской действительности, стать своего рода вечным укором — словно бы от лица русской литературы — «царизму» и, в конечном итоге, самому Государству Российскому.
Герои при подобной редукции лишаются собственной многомерности, объективируются и овнешняются, из субъектов художественного мира они превращаются в предмет для всевозможных, преимущественно социологических, манипуляций — то есть лишаются самодостаточности, воспринимаясь как функции, иными словами, насильственно превращаются в «типические характеры в типических обстоятельствах» [Маркс, Энгельс: 6–7].
Приходится сделать вывод, что сама концепция «маленького человека», ставшая распространенной после критических упражнений Белинского и его последователей, является ложной. Сводя представление о человеке к его социальной роли, к его месту в социальной иерархии, она вступает в противоречие с христианским пониманием образа человека. Ср.
противоположное по смыслу евангельское повествование о «маленьком» Закхее (Лк. 19:1–10). Сама эта концепция — один из продуктов революционно-демократической мифологии (см.: [Есаулов, 1998]), по известным причинам слишком долго господствовавшей в нашей филологической науке.
Надо сказать, что в последние десятилетия мы видим убедительную корректировку подобной редуцированной установки. Так, В. Н. Захаров подчеркивает, что в художественном мире Достоевского нет ни «лишних», ни «маленьких» людей: «У него каждый человек велик. Даже Макар Девушкин, социально ничтожный герой первого романа Достоевского. Каждый безмерен и значим, у каждого — свое лицо» [Захаров, 1989: 44]9. И в самом деле, Достоевский художественно убедительно показал (вероятно, как никто до него), что любой человек может быть и добрым, и злым, и талантливым, и бездарным. Он только лишь не может быть, собственно, «маленьким» (а может лишь казаться таковым). Однако можно ли утверждать, что такой подход к человеку присущ исключительно гению Достоевского? Представляется, что он характеризует русскую литературу как таковую — в ее вершинных проявлениях.
Русская словесность Нового времени возникла как парафраз двух потоков — европейской литературы и православной культуры (см.: [Есаулов, 2019]). В ее произведениях память православной традиции проявляется в уже секулярном мире, но это такая секулярность, которая все-таки так или иначе помнит о своих христианских истоках, которые обнаруживаются текстуально.
Поэтому персонаж в вершинных произведениях русской словесности не может быть вполне объективирован, овнешнен, обез-личен, как бы выведен за пределы христианского представления о человеке, он не сводится к своей словно бы заведомо страдательной функции «маленького человека». В отечественной литературе — в ее магистральном векторе — человек вовсе не является «маленьким»: «простым», то есть одномерным существом, которое, будучи вполне объективировано, словно бы не может быть личностью, то есть лишен божественного Лика.
Концепция «маленького человека» не определяет главного в русской литературе, она еще может быть уместной по отношению к персонажам второстепенных авторов, их всевозможным антонам горемыкам: к Пушкину же, Гоголю и Достоевскому это понятие неприменимо: оно не только затемняет смысл их произведений, но уводит исследователей на ложный путь в их толковании, второстепенное и маргинальное представляя как основное и главное.
Как «Мертвые души» не являются романом, но поэмой [Есаулов, 2020b], основной вектор русской классики не «гуманистический», но христианский, который хотя и осложнен парафрастическим соединением православного предания с европейской культурой, но в своей глубине наследует все-таки именно православной традиции, в которой «маленького человека» быть не может, ибо она — христоцентрична.
До сих пор, к сожалению, в системе нашего образования принято считать, что фраза «Все мы вышли из "Шинели" Гоголя» акцентирует несомненный приоритет изображения «маленького человека» для новой русской литературы.
Однако наша культура богаче подобных редуцированных ее истолкований, которые уже исчерпали свой созидательный потенциал и превратились в клише для механического заучивания. Поэтому от них давно пора освободиться. Например, поздний И. С. Шмелев полемически подчеркивал, что эта литература вышла не из гоголевской «Шинели», а «из духовной сущности русского народа, из томлений его по "правде Божией" на земле…» [Шмелев: 543].
Однако эта прекрасная писательская формулировка, на мой взгляд, все-таки не совсем точная, а потому нуждается в филологическом уточнении. Шмелев исходит, если использовать тартуско-московский литературоведческий сленг, из того, что «купель Православия» и «Шинель» являются своего рода членами бинарной оппозиции, когда одно заведомо исключает другое. Однако это не так.
Гоголевская «Шинель» также вышла, прежде всего, «из купели Православия», поскольку в повести обнаруживается мерцание гораздо более древней традиции, нежели романтическая. Сама же эта традиция православного юродства подразумевает испытание: способны ли мы увидеть в Акакии Акакиевиче, как это смог «молодой человек», своего брата во Христе — либо же только овнешненного «маленького человека»? Какой мерой мы мерим героя, такой отмерится и нам.