О мордовском эпосе в курсе "Мордовская литература" для студентов национальных отделений
Автор: Юрченкова Н.Г.
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Национально-региональный компонент образования
Статья в выпуске: 4-2 (25), 2001 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/147135568
IDR: 147135568
Текст статьи О мордовском эпосе в курсе "Мордовская литература" для студентов национальных отделений
Эпос - один из значительных видов мировой литературы. Вопрос о наличии или отсутствии его играет не столь значительную роль для народов, обладающих высокоразвитой литературой и уже сформировавшихся как нации. Гораздо большее значение он имеет для малых народов.
В процессе изучения студентами-филологами мордовского эпоса в курсе «Мордовская литература» передними стоят проблемы чисто литературные, связанные с вопросами дифференциации жанра, характера преемственности ее разновидностей, а также культурологические, прослеживающие эволюцию исторического сознания, специфику национального мышления мордовского народа в процессе его исторического развития.
При определении специфики жанра следует иметь в виду, что возникновение мордовского народного эпоса относится к периоду формирования древнемордовской этнической общности, стадии военной демократии, к переходной эпохе от бесклассового общества к классовому, признаками которой стали объединение племен в народность и образование феодальных отношений.
Народный эпос в своей синкретичнос-ти предшествовал не только художественной литературе, но и другим видам искусства. Его составляющие - это «устно-поэтические эпические произведения, описывающие общественно-политическую историю самого народа, эпические произведения о возникновении земли и Вселенной, о происхождении человека, о его борьбе за овладение богатствами земли, находящимися во власти мифических сил. Это — мифологический пласт эпоса» (Дорожкин М.В.,
Меркушкин Г.Я., Самородов К.Т., Шаронов А.М. «Сияжар» и мордовский народный эпос// Аспект-1989. Исследования по мордовской литературе: Тр. НИИЯЛИЭ. Вып. 96. Серия литературоведческая. Саранск, 1989. С. 108). С появлением литературы такого рода произведения, как правило, стали объединяться в художественное целое отдельными авторами или коллективами. Это так называемые книжные формы народного эпоса.
К раннеэпическим произведениям, отразившим древний период жизни мордовского народа, относится большой цикл песен, повествующих о родоплеменном предводителе мордвы Тюште. Еще больший пласт в эпическом творчестве мордвы занимают песни, отобразившие борьбу народа против иноземных захватчиков, тяжелую жизнь в условиях монголо-татарского ига.
Заметную роль в зарождении традиций литературной эпической поэзии сыграли произведения непрофессиональных литераторов: И. Зорина, Т. Завражнова и С. Ларионова, в творчестве которых наиболее ярко отразилась трансформация устно-поэтических традиций в книжно-литературные. Их произведения следует рассматривать как переходную ступень от фольклора к собственно литературному творчеству.
А.А. Шахматов, впервые прорецензировавший и опубликовавший отрывки из «Мордовской истории», Т.Е. Завражнова и С. А. Ларионова, писал: «... поверхностного просмотра этого рассказа было достаточно для того, чтобы убедиться в том, что большая часть его представляет сплошной вымысел, разукрашенный к тому же вставкой исторических имен и геогра-
фических названий, совершенно произвольно приуроченных к древнейшей истории мордвы» (Шахматов А.А. Из области новейшего народного творчества // Живая старина. 1909. Вып. 2/3. С. 2)
А.В. Алешкин, анализируя произведение, утверждает: «С их именами (Т.Е. Зав-ражного и С.А. Ларионова. - Н.Ю.) связано рождение одного из первых литературных эпических произведений» (Алешкин А.В. Они были первыми. Из истории мокша-эр-зянского литературного эпоса // Мокша. 1999. С. 72).
Другие исследователи отмечали, что «Мордовская история» повествует о борьбе мордовского народа с кочевниками, нападающими с востока на мордовские земли. Она написана в подлинно народном духе и пронизана теми же настроениями и мотивами, что и народные предания, легенды и сказки. Это одна из первых попыток литературной разработки исторической темы и изображения Тюшти в духе фольклорной эстетики (см.: Мордовское устное народное творчество: Учеб, пособие. Саранск, 1987. С. 259).
Т.Е. Завражнов и С.А. Ларионов предприняли попытку увязать традиционные мировоззренческие картины мордвы, ее темпоральные и исторические представления с библейской мифологией. В качестве метода такой «увязки» они использовали своеобразное вплетение библейской терминологии, в частности библейских имен, в переработанные под определенным углом зрения произведения устно-поэтического творчества мордовского народа. Примером может служить переработка ими сказочного (мифологического) сюжета о замужестве дочери легендарного Тюшти.
В центр «Мордовской истории» ТЕ. Зав-ражный и С.А. Ларионов помещают царя Тюштяна, что вполне созвучно темпоральным представлениям мордвы, включавшим в себя эпоху Тюшти (Тюштянь пиньге). Перед авторами стояла задача соотнести это мифическое время с реалиями мировой истории, что было сделано путем включения в повествование художественных фрагментов о сражениях мордовского царя с царями Эфиопии, Скифии, царем Сарда-напалом и др.
Соглашаясь с оценкой А.А. Шахматова творчества Т.Е. Завражного и С.А. Ларионова, приведем его высказывание: «До нас дошло много баснословных сказаний, облеченных в средние века в книжную форму, об исторических судьбах того или иного народа; в них народное перепутано с книжным точно так же. как в только что сочиненной “Мордовской истории", и при этом на первый план выдвигается еще третий элемент вымысла... Приемы сочинительства Завражного и Ларионова весьма сходны с приемами, которым следовали средневековые наши книжники» (Шахматов А.А. Указ. соч. С. 5).
Особого внимания в мордовской литературе заслуживают произведения, претендующие на роль эпических. Мифологическое сознание в ходе своей эволюции проделывает путь от архаической, нерасчленен-ной хтонической мифологии рода до героического сознания складывающегося народа раннеклассового общества. Последнее сознание в ходе своей эволюции, под влиянием социальных причин, демифологизируется. Мифологическому сознанию уступает место эпическое сознание.
В связи с задачами нашего исследования остановимся на анализе отдельных мордовских эпических произведений, представляющих собой наиболее яркие образцы этого жанра. Вокруг жанровой природы. поэтики и характера изображенных в них событий и образов в мордовской критике ведется полемика, суть которой сводится к разноречивому толкованию эпических поэм указанных ниже авторов, с одной стороны - как народных, с другой, как литературных.
Важное место в истории мордовской литературы занимают эпические произведения В.К. Радаева «Сияжар», «Пенза и Сура», «Тюштя». Самым значительным из них является «Сияжар». Жанровая специфика этого произведения вызывала и вызывает споры в финно-угроведении. Поскольку высказанные точки зрения на него принадлежат достаточно известным исследователям, а их аргументация имеет определенный интерес в связи с избранной нами темой исследования, существует насущная потребность анализа имеющихся мнений.
Первая точка зрения сводится к утверждению, что «Сияжар» является эпосом. Она была высказана мордовским литературоведом И.К. Инжеватовым в предисловии к изданию «Сияжара» (1960 г.) и повторена в «Истории мордовской советской литературы». По мнению И.К. Инжевато-ва, эпос В.К. Радаева - плод его сорокалетнего труда как собирателя, обработчика и редактора. Это мнение поддержал ведущий мордовский литературовед Н.И. Черап-кин, оценивший произведение В.К. Радаева как героический эпос, верный, с точки зрения содержания и формы, мордовским преданиям. Аналогичны высказывания А.В. Алешкина, считавшего «Сияжар» «особой разновидностью современного историкогероического эпоса» (Алешкин А.В. Единство традиций: (Народ и личность в мордовской эпической поэзии). Саранск, 1978. С. 38 -62).
Венгерский исследователь П. Домокош задается вопросом о том, не является ли «Сияжар» третьим финно-угорским эпосом и отвечает на него утвердительно (см.: Домокош П. Рядом с «Калевалой»: («Сияжар» - фольклор и история для мордвы)// Сов. Мордовия. 1984. 27 окт. С. 3).
Исследователей поддержал и переводчик «Сияжара» на русский язык С.А. По-делков, который писал: «Сияжар - это огромное эпическое движение жизни, это отошедшее время, но до сих пор звучащее в сознании мордовского народа. Это изустные сказания, баллады и легенды о богатыре Сияжаре. Они, разрозненно сиявшие много веков в душевной глубине эрзянских сказителей и песнопевцев, записывались, собирались Василием Радаевым в течение тридцати лет с великим терпением и любовью» (Поделков С.А. От переводчика // Аспект-1989. С. 103).
Однако аргументация сторонников этой точки зрения являлась достаточно слабой. Они исходили из мнения о том, что народно-эпические сказания - это не просто сумма раз и навсегда застывших в первоначальной форме произведений, а явление, подвергающееся исторической трансформации и в процессе развития духовной куль-т\ ры народа, не меняя своей содержательно-исторической сущности, испытывающее воздействие «форм» времени и «духа» вре мени. При этом в ряде случаев в качестве аргумента присутствовали соображения идеологического характера.
Оформление второй точки зрения связано с именем известного мордовского фольклориста А.И. Маскаева, который утверждал, что поэма «Сияжар» - не фольклорное произведение. Не отрицая влияние фольклора, он заявлял, что при написании «Сияжара» «частично использованы наряду с другими источниками и сказочные мотивы, и материалы мордовской свадьбы. Поэтому влияние устного народного творчества здесь несомненно ... рассматривать произведение вне фольклора трудно» (Маскаев А.И. Мордовская народная эпическая песня. Саранск, 1964. С. 415). Исследователь считал данное произведение не фольклорным, а писательским, для которого использованы фольклорные материалы.
Эта точка зрения была поддержана профессором А.Г. Борисовым, который также писал о работе В.К. Радаева как об авторском произведении.
Достаточно резко свою позицию высказали в 1978 г. в газете «Советская Мордовия» М.В. Дорожкин, Г.Я. Меркушкин, К.Т. Самородов, А.М. Шаронов: «К сожалению, находятся люди, которые это интересное произведение мордовской советской литературы относят к народному эпосу, ставя, таким образом, автора в крайне неловкое положение. Получается, что фольклористы “гонят” его из фольклора, а литераторы - из литературы. И только потому, что сторонники “народного эпоса” к оценке поэмы подходят с критериями не научными» (Дорожкин М.В., Меркушкин Г.Я., Самородов К.Т., Шаронов А.М. «Сияжар» и мордовский народный эпос //Сов. Мордовия. 1978. 24 дек. С. 4).
Авторским произведением считает «Сияжар» М.Ф. Ефимова. По ее мнению В.К. Радаев изменял народные предания так, как ему было нужно для решения основной идеи произведения: «Они становились иными в народном творчестве, рада-евскими» (Ефимова М.Ф. Мордовский народный эпос и поэма В.К. Радаева «Сияжар» И Горение. Саранск, 1986. С. 241).
Сложившаяся ситуация привела к тому, что в 1976 г. В.К. Радаев был вынужден обратиться в НИИЯЛИЭ при Совете Ми- нистров Мордовской АССР с просьбой дать заключение о «Сияжаре» как о его авторском произведении. Однако позиция автора не прекратила споры, идущие до настоящего времени.
Исследование произведения В.К. Радаева «Сияжар», как соотношение мифа и эпоса, позволяет взглянуть на эту проблему с иной точки зрения. Мифология является одним из важнейших источников формирования героического эпоса, а мифологическое мышление накладывает на него свой отпечаток, порождая четко выраженные архаические черты. Так, в архаической эпике, как правило, существует дуали-стичная система племен, враждующих между собой, человеческого и демонического. Причем последнее чаще всего носит хтонический характер, т.е. связано с подземным миром, смертью и т.п. В какой-то мере подобный взгляд отражает особенность первобытного мифологического мышления с достаточно четким противопоставлением «мы» - «они».
Следует отметить, что для работы В.К. Радаева характерно противопоставление мифологическому мировоззрению и мировосприятию, событийного и мировоззренческого строя поэмы. Так, одной из основных ценностных категорий мифологического мышления мордвы является видение героического в сохранении семейно-родственных связей как первоосновы общенациональных (см.: Евсеев В.Я. Исторические основы карело-финского эпоса. М.; Л., 1960. Кн. 2. С. 348). В.К. Радаев же героическое показывает через борьбу Сия-жара и его друзей с врагами в бою, в поединке, отказываясь, таким образом, от традиционной трактовки и воспринимая традицию других народов (славянских, тюркских).
Для мордовских мифов характерно отсутствие сюжетов о любви мужчины к женщине и вообще о любви. «Здесь даже нет сведений о чувствах к родным и близким. Сдержанность в этом плане - одна из основных черт мордовского национального характера... Язык человека, раскрывающего свои чувства, считался “суксу” (гнилой, червивый)», - утверждает М.Ф. Ефимова (Указ. соч. С. 244). «В быту мордовской деревни XIX века считалось неприлич ным слушать признания в любви» - вторит ей А.И. Маскаев (Указ. соч. С. 123). В отличие от традиционного мировоззрения В.К. Радаев в своем произведении рисует интимную любовную линию Сияжара и Нуи. Волги и Витовы. Сафара и Зары. Мало того, здесь присутствует чисто литературный мотив признания в любви девушки (Витовы. Нуи).
Таким образом, поэма В.К. Радаева «Сияжар» занимает особое место в процессе освоения мордовской литературой мифологических сюжетов. В ней автор не только прибегает к мордовской мифологической символике и мышлению мордовскими мифологическими образами, но и осваивает христианскую мифологию, синтезируя ее с национальной. Что касается научных споров о статусе этого произведения, то мы не склонны считать его сводом народных произведений, творчески обработанных автором. Скорее, это высокохудожественное авторское произведение, тесно связанное с традициями устного творчества мордовского, финского и русского народов.
Большие споры, дискуссии вызвала книга «Масторава», опубликованная с указанием, что она составлена на основе эрзянских и мокшанских мифов, эпических песен и сказаний А.М. Шароновым. В многочисленных отзывах авторы, достаточно высоко оценивая произведение, расходились во мнении его о статусе. Одни называли «Мастораву» эпическим произведением. повествующим о жизни мордовского народа так, как она отражена в его фольклоре, другие - литературным вариантом мордовского эпоса, третьи - неудавшейся попыткой и того, и другого.
Профессор Н.Е. Адушкин считал «Мастораву» эпическим произведением и подчеркивал ее художественно-эстетическую и научно-познавательную ценность. Он писал: «Выход в свет книги 'Масторава' свидетельствует о том. что у нас в республике создано монументальное эпическое произведение, которое достойно будет представлять мордовский народ и его культуру на международной арене» (Адушкин Н.Е. Эпос о красоте, мудрости и величии души народа // Известия Мордовии. 1996. 19 янв. С. 4).
Мнение Н.Е. Адушкина поддержали и другие ученые, которые публикацию «Масторавы» причисляют к событиям мирового значения, а составителя ставят рядом с Гомером и Ш. Руставели. Сама же книга приравнивается ими к всемирно известным эпическим произведениям и даже Библии. В этих рецензиях «Масторава» называется третьим финно-угорским эпосом, с выходом которого у эрзян и мокшан, наконец-то, появилась своя история. Член-корреспондент АН Украины О.Б. Ткаченко восторженно восклицает: «Это настоящая мордовская Библия! ... “Масторава’’- эрзянская “Калевала”^ а ее собиратель - Лен-рот или Крейцвальд» (Ткаченко О Б. «Масторава» - эрзянская Калевала // Эрзянь мастор. 1996. 27 янв. С. 4).
Аналогичную оценку дает произведению и ее автору В.И. Демин: «Завершен многолетний уникальный труд, которому, несомненно, предстоит занять достойное место в ряду немногочисленных книжных памятников подобного характера, таких как “Илиада” и “Одиссея” Гомера, “Калевала” Э.Э. Ленрота, “Лачплесис” А. Пумпура, “Калевипоэг” Ф. Крейцвальда, “Витязь в тигровой шкуре” Ш. Руставели» (Демин В. «Масторава»: Человечность, гуманизм // Известия Мордовии. 1995. 27 янв. С. 2).
В предисловии к книге М.В. Дорожкин говорит о том, что хотя ее и не следует воспринимать как летопись или документальный исторический материал, однако «подлинно народное произведение», «художественная автобиография мордовского народа», «достоверный героический эпос, близкий к классическому эпосу других народов, посредством поэтических образов глубоко и правдиво раскрывающий происхождение нашего древнего народа, его обычаи и обряды, многовековую историю его материальной и духовной культуры, начиная со времен родоплеменного общества и вплоть до победы над Казанским ханством, когда эрзянский и мокшанский народы воссоединились с Русской землей» (Масторава. Написана на основе древних мифов, эпических песен и сказок А.М. Шароновым. Саранск, 1994. С. 5 - 6).
Иной точки зрения придерживается председатель общества «Масторава» Н.И. Чиняев. Он считает, что «Масто рава» - литературный вариант мордовского эпоса. Ее композиция и сюжет авторского происхождения, однако в них отражена логика развития эпического фольклора, учтены его циклизация, периодизация и классификация, принятые в мордовской фольклористике и признанные русской фольклористикой. При этом отмечается, что в «Мастораве» достаточно полно даны мифология, гражданская история народа, представлены важнейшие эпические герои и персонажи; с выходом в свет этого произведения мордовская литература поднимается до самых высоких вершин художественного эстетического творчества.
По признанию самого автора, при подготовке эпоса, ставшего главным делом его жизни, он использовал записи предшественников и современников (М. Евсевь-ева, Л. Кавтаськина, А. Маскаева, X. Па-асонена, А. Шахматова), но большую часть народных песен собрал сам в процессе экспедиционной деятельности.
Рецензенты произведения указывают, что автор свода, оттолкнувшись от фольклорных мотивов, некоторые песни существенно переработал и речь в этих случаях должна идти уже непосредственно о чисто авторском творчестве.
С острой критикой «Масторавы», претендующей на роль мордовского эпоса, выступил известный специалист по вопросам этнографии и истории мордвы профессор Н.Ф. Мокшин. Большинство имеющихся отзывов , о произведении он оценивал как комплиментарные, поверхностные, некомпетентные, в лучшем случае - сугубо эмоциональные, в которых отсутствуют профессионализм и аргументация. Приводя достаточно обоснованные доводы, Н.Ф.Мокшин заявил, что во многих случаях создается лишь видимость, будто составитель «Масторавы» опирается на памятники народного творчества, на самом же деле в текст включается материал, далекий от фольклора. Здесь встречается не только произвольное обращение с исходным материалом, но и грубейшие ошибки, критическое отношение к источникам, их фальсификация. Оценивая работу в целом, он сказал: «... по моему убеждению, попытка связного эпического изложения в одном, пусть и в очень обширном, произведении древней
Ш »S®■ ИНТЕГРАЦИЯ и средневековой истории мордвы не удалась» (Мокшин Н.Ф. Прокрустово ложе (о книге «Масторава») // Вечерний Саранск. 1996. 25 янв. С. 6).
Мы считаем, что А.М. Шаронов при создании произведения, несомненно, отталкивался от фольклорных мотивов. При этом некоторые сказания «Масторавы», сохранив народную основу, претерпели существенную переработку, а в других фольклорная основа едва прослеживается. Исходя из этого и присоединяясь к мнению тех исследователей, которые считают композицию «Масторавы» и ее сюжет авторского происхождения, вышеназванную работу мы склонны характеризовать как талантливое авторское произведение.
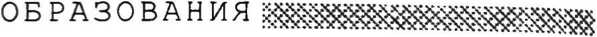
В ходе изучения этой темы подробному анализу необходимо подвергнуть и другие произведения мордовской литературы, претендующие на роль эпических. Целесообразно обратиться в качестве сравнения к эпосу других финно-угорских народов (например, «Калевала», «Кале-випоэг»),
В заключение подчеркнем, что народный эпос не создается писателями и поэтами, он может ими только собираться и обрабатываться. Произведение же В.К. Радаева «Сияжар» и «Масторава» в сущности своей отражают стремление мордовских литераторов к созданию приближенного к народному варианту единого мордовского эпоса.


