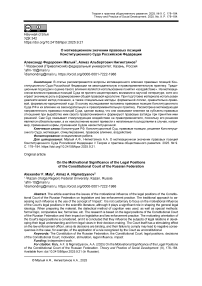О мотивационном значении правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации
Автор: Малый А.Ф., Нигметзянов А.А.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 9, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы мотивационного влияния правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации на законодательную и правоприменительную практику. Традиционным подходом к оценке такого влияния является использование понятия «воздействие». На мотивационном влиянии правовых позиций Суда не принято акцентировать внимание в научной литературе, хотя оно играет значимую роль в формировании общей правовой идеологии. При подготовке материала использован диалектический метод познания, а также специальные методы: формальной логики, сравнительно-правовой, формально-юридический и др. В основу исследования положены правовые позиции Конституционного Суда РФ и их влияние на законодательную и правоприменительную практику. Рассмотрена мотивирующая направленность правовых позиций Суда, сделан вывод, что они оказывают влияние на субъекты правовых отношений при выработке ими своего правопонимания и формируют правовые взгляды при принятии ими решений. Сам Суд оказывает стимулирующее воздействие на правоприменителя, поскольку его решения являются обязательными, а их неисполнение может привести к негативным последствиям в случае, например, применения нормы, признанной Судом неконституционной.
Конституция РФ, Конституционный Суд, правовые позиции, решения Конституционного Суда, мотивация, стимулирование, правовое влияние, воздействие
Короткий адрес: https://sciup.org/149149188
IDR: 149149188 | УДК: 342 | DOI: 10.24158/tipor.2025.9.21
Текст научной статьи О мотивационном значении правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации
,
Правовые позиции Конституционного Суда (далее – КС) не являются нормативными предписаниями, они содержат концентрированный вывод, явившийся следствием проведенного анализа правовой нормы. Подобная оценка правовых позиций является доминирующей в научной литературе1 (Витрук, 2001: 111; Лазарев, 2003: 71). Вместе с тем правовые позиции КС являются значимым элементом в механизме правового регулирования общественных отношений (Бондарь, 2005: 239). Их влияние на законодателя и правоприменителя несомненно, но формы и степень требуют своего дальнейшего изучения, несмотря на значительный объем литературы по данному вопросу. Разнообразие подходов к выявлению способов влияния права на участников правоотношений дает возможность сконцентрировать внимание на важности и приемлемости каждого из них. Можно сразу исключить такой способ влияния правовых позиций, как воздействие, поскольку воздействовать может человек, использующий норму (и правовую позицию) как правовое средство при принятии правоприменительного акта. Поскольку правовые позиции «есть правовые представления (выводы) общего характера» (Витрук, 2001: 111), то сами они без властного акта уполномоченного органа воздействовать на субъект права не могут. Решения Суда, принятые на основе правовой позиции, таковым воздействием являются, поскольку это акт органа власти, имеющий юридически значимые последствия (Малый, 2024). Поэтому влияние правовой позиции на законодательную и правоприменительную практику можно определить как мотивирование, а при наличии в решениях КС обязывающих или запрещающих положений – оценить само решение как стимулирующее воздействие в отношении правоприменителя.
Нельзя назвать правовые позиции сами по себе имеющими стимулирующий характер, поскольку стимул предполагает закрепление позитивных или негативных последствий для субъекта права. Эти последствия могут носить поощрительный или принудительный характер, а при их отсутствии можно вести речь только о таком влиянии, как мотивирование (Нигметзянов, 2023).
В правовых позициях КС мотивационное содержание выражено достаточно определенно, но оно не является нормативно-регуляторным, поэтому сложно определить их правовое влияние, используя другие выражения (помимо мотивирования) и инструменты. Можно обратить внимание на содержание запрещающих конституционных норм, трактовка которых Конституционным Судом содержит два важных компонента: мотивирующий и стимулирующий (обязывающий).
Конституционный запрет может быть выражен в правовом предписании с использованием различных лингвистических конструкций. Но в большинстве случаев это запрет на совершение определенных действий. Прямые запреты устанавливаются в нормах, посвященных правам и свободам личности. Так, согласно Конституции РФ, «гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства или права изменить его» (п. 3 ст. 6), «никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию» (п. 2 ст. 21)2. Определенно четкая запрещающая формулировка содержится в нормах-принципах: «Никто не может присваивать власть в РФ» (п. 4 ст. 3); «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной»3. Толкуя эти и другие конституционные положения, Конституционный Суд формулирует правовые позиции, обращенные к широкому кругу субъектов и мотивирующие их на выработку понимания содержания этих норм.
При обосновании собственных правовых позиций и опирающихся на них выводов Суд дает содержательную отсылку к ряду конституционных положений, увязывая их с общим выводом. Так, рассматривая жалобу А.Б. Смирнова о нарушении Законом о гражданстве его права на гражданство, Суд обратил внимание на обязанность государства обеспечить каждому «уважение достоинства личности» при реализации права на гражданство (ч. 1, ст. 21 Конституции); недопустимости умаления достоинства личности временным прекращением законно приобретенного гражданства принятием или отменой законов (ст. 18, ч. 2 ст. 55)4. Суд признал ряд норм Федерального закона о гражданстве от 1991 г. (в редакции 1995 г.) не соответствующими Конституции РФ.
Итогом такого решения КС стала утрата нормой юридической силы. Каково в этом случае правовое побуждение к совершению каких-либо действий со стороны Суда? Можно назвать определяющий способ – мотивирование, которое адресовано как законодателю (изменение нормы за- кона), так и правоприменителю (не применять норму, утратившую силу). В первом случае законодатель может проигнорировать решение КС, поскольку оно не подкрепляется какими-либо стимулирующими последствиями. Правоприменитель не может не учитывать решение Суда, поскольку он встроен в иерархическую систему и существует высокая вероятность признания вышестоящей инстанцией правоприменительного акта незаконным в силу применения при его издании недействующей нормы. И в том, и в другом случае мотивационная составляющая решения Суда определяет действия субъектов права, но во втором она усилена стимулирующим фактором ‒ возможными негативными последствиями для правоприменителя (Малый, Нигметзянов, 2025: 163).
Говорить о правовом воздействии в данном случае можно только применительно к самому решению, поскольку оно обязательно для законодателя и правоприменителя. Что же касается правовой позиции, то она выполняет мотивирующую функцию, ориентирует участников конституционно-правовых отношений на принятие решений, что в то же время является и реализацией постановления КС.
Общий характер предписаний конституционных норм требует своей конкретизации в отраслевом законодательстве. В свою очередь, и законодатель при принятии нормативного акта должен ориентироваться в понимании содержания нормы. Границы возможной интерпретации конституционной нормы призван устанавливать Конституционный Суд.
В одном из своих определений Суд изложил свое видение границ реализации права на неприкосновенность частной жизни и возможные последствия для личности при совершении противоправных действий1. При законопослушном поведении государство и общество не вправе вмешиваться в сферу личной жизни и осуществлять контроль за ней. Такое понимание естественным образом формирует у человека мотивацию поведения. Но если в сознании сформировался умысел на совершение противоправного деяния, то лицо должно осознавать возможные негативные последствия, в том числе ограничение права на неприкосновенность частной жизни. Хотя данная конституционная норма не содержит прямого запрета, но предполагается при наступлении определенных обстоятельств, что и следует из разъяснения Суда. Возможность наказания предусмотрена отраслевым законодательством, и это является стимулом, усиливающим мотивацию лица на законопослушное поведение.
Роль запрещающих норм хорошо прослеживается в том случае, когда речь идет о правах и обязанностях граждан. Однако несколько другой контекст прослеживается при использовании запретов в рамках регулирования отношений между представителями публичной власти, а также провозглашения базовых принципов функционирования российского государства.
Учитывая тот факт, что в постсоветской России построение обновленной модели федеративных отношений осуществлялось поэтапно и при активном политическом «брожении» умов, требовался орган, решения которого были бы юридически убедительны и политически взвешены. Эту роль выполнял Конституционный Суд, решения которого являлись правовым инструментом для принятия политических решений. Обоснованность и «юридический вес» правовых позиций Суда позволяли стабилизировать федеративные отношения, уравновешивать радикальные подходы по вопросу политико-правовых воззрений представителей органов государственной власти субъектов РФ и федеральных органов власти. Однако этот процесс затянулся на годы, в течение которых «вызревали» возможности реализации решений Суда через формирование взглядов участников политического процесса.
Правовые позиции Суда по вопросам федеративного устройства анализировались представителями науки конституционного права (Чертков, 2011), проблемы федеративного устройства России были предметом обсуждения научных конференций, находили отражение в исследованиях представителей смежных наук, заявлениях политиков. Все это формировало представление о должном и необходимом в вопросах федеративных отношений, прежде всего в умах политиков, принимающих в конечном итоге политические решения. Закрепление в нормативных актах политических установок должно соответствовать Конституции РФ, и в этом контексте правовые позиции Суда не могут быть проигнорированы законодателем. Влияние решений Суда является определяющим, посредством содержащихся в них идей «закладываются» соответствующие воззрения в головы законодателей, мотивируя их на вполне конкретные деяния. Иных правовых инструментов повлиять на реализацию правовых позиций Суда в процессе принятия нормативного акта нет. В последующем принятый закон может быть рассмотрен КС на предмет соответствия Конституции и признан в какой-то части недействующим. Но такого решения может и не быть, поскольку сам Суд может внести коррективы в ранее сформулированную позицию. Достаточно вспомнить постановления Суда по вопросу об избрании главы субъекта РФ (Суд дважды менял свою правовую позицию).
Безусловно, помимо правовых выводов Суда и возможности использовать судебную систему для приведения федерального и регионального законодательства в законодательную гармонию, имеются и иные инструменты: экономические, политические. Все они, так или иначе, «работают» на общую идею: необходимость сохранения политического и экономического конституционного строя. Суд обеспечивает соответствующую правовую основу такой стабильности. Иногда требуются годы на продвижение политико-правовых воззрений и опирающихся на них решений. И мнение Суда здесь выступает определяющим.
Одним из таких сложных процессов является проблема понимания государственного суверенитета. В начале 90-х гг. прошлого века большинство республик в составе Российской Федерации закрепили положения о своем государственном суверенитете. Только через почти семь лет КС смог сформулировать правовую позицию по данной проблеме, хотя конституционные основы, на которые опирался Суд, существовали с декабря 1993 г.
В Постановлении от 13 марта 1992 г. по делу о проверке конституционности Декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан от 30 августа 1990 г. и ряда законодательных актов Республики Татарстан о проведении референдума Суд обозначил свое видение обеспечения суверенитета Российской Федерации1. Он признал нормы актов Республики Татарстан, провозглашавших Республику суверенным государством и субъектом международного права, неконституционными. В то же время Суд «с пониманием отнесся к стремлению многонационального народа Республики Татарстан развивать и укреплять государственность республики и поддержал провозглашенную в Декларации цель формирования демократического правового государства, в котором гражданам гарантируется равенство независимо от национальной принадлежности и вероисповедания»2.
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», «признание не соответствующими Конституции РФ положений конституций (уставов) и нормативных актов какого-либо субъекта РФ является основанием для их отмены, равно как и отмены аналогичных положений в нормативных правовых актах других субъектов РФ»3. Тем не менее в самом начале строительства новой российской государственности, субъекты Федерации проигнорировали правовые позиции Конституционного Суда РФ. Это свидетельствует о том, что помимо мотивационной составляющей в решении Суда в стране отсутствовали иные инструменты для реализации его правовых позиций, в том числе стимулирующие факторы, а также политическая воля и экономическая база. Правовая мотивация для своей успешной реализации должна находить отклик в деятельности исполнителей, имеющих соответствующее образование и способных ее воспринять, а также разнообразный набор стимулирующих инструментов (правовых и организационных).
В начале 2000-х гг. Конституционный Суд РФ продолжил данную линию, что нашло отражение в его решениях. В своем Постановлении от 7 июня 2000 г. № 10-П он поставил точку, сделав вывод о том, что «Конституция РФ не предполагает какого-либо иного государственного суверенитета, помимо суверенитета Российской Федерации»4. Субъекты Федерации не могут обладать государственным суверенитетом, поскольку в Федерации не может быть двух уровней суверенных органов власти5.
Повторение соответствующих выводов изложено в Определении от 27 июня 2000 г. № 92-О. Согласно ему, «государственный суверенитет признается только за Российской Федерацией, поскольку именно в нем воплощается целостность государства, верховенство федеральной Конституции и единство системы государственной власти»1, что усиливает мотивирующее влияние Постановления от 7 июня 2000 г., но реализация правовых позиций остается за иными органами, включая суды, органы законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровня.
Мощным инструментом воздействия Конституционного Суда на законодательную и правоприменительную практику является право Суда признавать нормативные правовые акты (их отдельные положения) не соответствующими Конституции РФ. Суд может признать норму закона не соответствующей Конституции в той мере, в какой она допускает то или иное правомочие суда, надзорного или иного государственного органа, осуществляющего публичные функции. Такое признание влечет утрату у государственного органа права применять норму в интерпретации, признанной Судом противоречащей конституционно-правовому смыслу. Например, Постановлением Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. № 13-П признаны неконституционными нормы ряда федеральных законов, допускающие их применение в интерпретации, противоречащей конституционно-правовому смыслу, выявленному Судом2. В частности, суды общей юрисдикции утратили возможность рассматривать дела об оспаривании конституций и уставов субъектов РФ; признаны неконституционными нормы, допускающие обращение прокурора в суд общей юрисдикции с заявлением о признании норм конституций и уставов субъектов РФ, противоречащими федеральному закону.
В Постановлении от 18 марта 2025 г. № 12-П Суд еще раз подтвердил свой ранее сделанный вывод, что «однородные по своей природе отношения должны регулироваться одинаковым (схожим) образом»3. КС отметил, что любое ограничение прав должно отвечать требованиям Конституции (ч. 3 ст. 55), а «любая дифференциация, приводящая к различиям в правах граждан в той или иной сфере правового регулирования»4, должна быть объективно оправдана, обоснована, и направлена на достижение конституционно значимой цели.
Признавая нормы закона соответствующими Конституции РФ, но предлагая собственное их понимание в соответствии с выявленным конституционно-правовым смыслом, Суд использует своеобразный инструмент влияния своих решений на практику применения норм закона. Такое решение можно назвать воздействием, поскольку постановление Суда обязательно для правоприменителя, а его игнорирование последним чревато негативной оценкой вышестоящей инстанцией.
Аргументируя свои выводы и облекая их в правовую позицию, Суд вырабатывает новые подходы к оценке содержания действующих норм права и необходимости их применения в соответствии со своим видением. При этом им используются как собственные выводы по предыдущим делам, так и доктринальные источники. Суд формирует доктринальные положения, внося вклад в развитие теории права и практику его применения, умножая идеи, заложенные в конституционных принципах, расширяя понятийный аппарат конституционного права (Малый, 2025). Можно утверждать, что правовые позиции КС развивают правовую идеологию, оказывающую мотивирующее влияние на позицию законодателей при обсуждении и принятии законов.
Подводя итог, можно сделать три вывода. Во-первых, правовые позиции Суда выполняют мотивационную функцию, поскольку в них не заложен стимулирующий элемент, обеспечивающий безусловную реализацию идеи, сформулированной в правовой позиции Конституционного Суда. Во-вторых, правовая позиция Суда является идейной основой решения, применение которого задает вектор модификации нормы, признания ее неконституционной или неправильно интерпретируемой правоприменителем с нарушением выявленного Судом конституционно-правового смысла. Именно решение выполняет стимулирующую функцию, обязывая субъекта права к определенному действию. В-третьих, правовые позиции Конституционного Суда являются самостоятельным, имеющим свой правовой инструментарий побуждения субъектов права к правомерному поведению элементом влияния на формирование и реализацию права в правовой системе России.