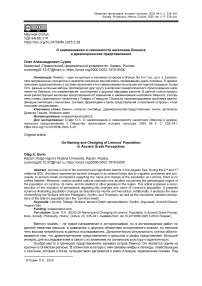О наименовании и сменяемости населения Лемноса в древнегреческих представлениях
Автор: Сурин О.А.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
Лемнос – один из крупных и значимых островов в Эгеиде. Во II и I тыс. до н. э. в результате миграционных процессов и захватов несколько раз менялись проживавшие здесь племена. В древнегреческих представлениях о составе населения и его наименовании на острове нет единой традиции. Более того, разные античные авторы противоречат друг другу в вопросах генеалогического происхождения населения на Лемносе, его наименования, соотнесения с другими народами региона. В данной статье предложена реконструкция эволюции представлений об изменении и наименовании населения Лемноса. Состав-лены схемы сменяемости населения у Гомера и Геродота. Отдельно проанализирована проблема идентификации синтийцев с пеласгами, синтами, фракийцами и связь представлений о населении острова с «лемносскими злодеяниями».
Лемнос, пеласги, синтийцы, древнегреческие представления, синты, аргонавты, Древняя Греция, Эгейское море
Короткий адрес: https://sciup.org/149147970
IDR: 149147970 | УДК: 94(38):314 | DOI: 10.24158/fik.2025.5.28
Текст научной статьи О наименовании и сменяемости населения Лемноса в древнегреческих представлениях
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия, ,
,
Memory studies – не новое направление в историографии, но в антиковедении работ по данной тематике меньше, в сравнении с другими областями исторического знания, по причине чего высока потребность в данных исследованиях. Дополнительно актуальность статьи обосновывается тем, что древнегреческие представления о прошлом и мифы представляют большой интерес для исследователей в связи с их влиянием на эллинскую культуру и идентичность.
Особое место в греческих представлениях занимал остров Лемнос. Он является одним из крупных в Эгейском регионе. В эллинской культуре с ним связаны мифы и легенды, повествующие о теогонии, истории о богах, путешествиях аргонавтов и войск Атридов, переселении племен. Ряд
рассказов касается народов, проживавших на Лемносе. Подобные сюжеты интересны для рассмотрения в контексте представлений греков о своих предшественниках и предках, например, о пеласгах, которые были последним догреческим народом острова, согласно сообщениям некоторых античных авторов (Hdt. IV. 145).
В представлениях греков о сменяемости и наименовании населения Лемноса не было единого мнения – в трудах различных авторов приводятся противоречащие друг другу сведения. В контексте вопроса о том, кто такие пеласги, также возникает проблема, связанная с атрибуцией их с лемносским населением в эллинских источниках. Эта проблема связана с тем, что Геродот знает только пеласгское население на Лемносе и не упоминает о тирренах, хотя последние жили на острове, о чем известно благодаря эпиграфическим материалам (Блок, 2004: 45–47; Харсекин, 1976; Яцемирский, 2005; Brandenstein, 1940; Kloekhorst, 2022).
Стоит отметить, что не во всех древнегреческих источниках Лемнос связывался с пеласгами. Цель данной статьи состоит в анализе сведений античных авторов о сменяемости и наименовании населения Лемноса и реконструкции схем этой сменяемости на основе представлений греков. Ее методология основана на теоретических подходах в исторической памяти. В связи с этим особое внимание уделяется источниковедческому анализу, ибо для выводов о представлениях о прошлом важно знать время создания источника, его эволюцию и, что не менее значимо, восприятие в обществе.
Лемнос упоминается в «Илиаде» и «Одиссее» – двух наиболее ранних греческих источниках, написанных алфавитным письмом. В XIV песне «Илиады» речь идет о священном городе Лемносе и его правителе Фоанте, но не называется население острова (Hom. Il. XIV. 230). Фоант упоминается еще в одном эпизоде без указания его этнической или племенной принадлежности (Hom. Il. XXIII. 745). В I песне «Илиады» Гомер пишет, что на божественном Лемносе синтийцы1 приняли Гефеста после его падения на остров (Hom. Il. I 590–594). В XXI песне Лемнос называется священным (Hom. Il. XXI. 79). Также в «Илиаде» упоминается Эвней, сын предводителя аргонавтов Ясона и правительницы Лемноса Гипсипилы (Hom. Il. VII. 468–469). В другом гомеровском эпосе, в «Одиссее», упоминается, что на Лемносе живут синтийцы (Σίντιας), по отношению к которым поэт употребляет понятие ἀγριοφώνους – грубоголосые (Hom. Od. VIII. 294)2.
Таким образом, самым ранним населением Лемноса, отмеченным в гомеровском эпосе, являются синтийцы – жители острова, приютившие Гефеста после его падения с Олимпа, вероятно, в очень давнее время (Hom. Il. I 590–594; Hom. Od. VIII. 294). Однако в эпосе не говорится, что современное гомеровским героям население острова является синтийским. Лемнос связывается как с Фоантом, так и с Эвнеем – сыном Ясона и Гипсипилы. Данное обстоятельство противоречит последующим сведениям греческих источников. Фоант не может быть правителем Лемноса во времена Троянской войны, ибо Эвней являлся сыном аргонавта Ясона, вступившего в связь с Гипсипилой после убийства лемносскими женщинами мужчин, а путешествие аргонавтов было предпринято до Троянской войны (Apoll. Arg. I. 601–909). В любом случае ни Фоант, ни Эвней, ни потомки аргонавтов не называются Гомером ахейцами, данайцами или аргивянами, а также кем бы то ни было еще. У аэда, создававшего эпос, не было цели связать тех или иных персонажей с конкретным народом.
Но, опираясь уже на Геродота, следует сказать, что потомки аргонавтов имели отношение к Пелопоннесу, хоть и назывались лемносцами (Hdt. IV. 145; Hdt. VIII. 73). «Первый историк» указывает, что на Лемносе жили потомки аргонавтов, которые впоследствии были изгнаны пеласгами. Он их называет минийцами. При этом Геродот отдельно не отмечает их принадлежность к эллинам, сообщая только, что после изгнания пеласгами они отправились к отцам/родителям (Hdt. IV. 145). То есть минийцы вернулись на землю своих предков-аргонавтов.
Согласно Геродоту, персы при Дарии I захватили Лемнос, который в то время еще населяли пеласги. При этом не упоминается, был ли на острове кто-то помимо них – греки или другие народы. Говорится только, что лемносцы храбро сражались, и после их поражения Отан, военачальник Дария, назначил правителем Ликарета, сына Меандрия, брата царя Самоса (Hdt. V. 26– 27). По Геродоту, остров окончательно стал эллинским только после его покорения Мильтиадом Младшим (Hdt. VI. 136–140). Помимо пеласгов, философом не упоминается ни один другой народ, населяющий остров. При этом в восьмой книге Геродот пишет, что пелопонесцы делятся на семь племен, и одно из них – лемносцы (Hdt. VIII. 73). Вероятно, это потомки аргонавтов, упомянутые Геродотом ранее, то есть минийцы (Hdt. IV. 145). О принадлежности пелопоннесских лемносцев к эллинам не говорится, но, видимо, это подразумевается. Поэтому Геродот использует термин «лемносцы» в разных значениях: для наименования населения острова Лемнос, являющегося пеласгским (Hdt. V. 26–27), и для названия потомков переселенцев с острова, являвшихся минийцами (Hdt. IV. 145).
Другой греческий историк, Фукидид, пишет, что население в районе Афона в основном состояло из пеласгов, произошедших от тирсенов, которые некогда жили на Лемносе и в Афинах (Thuc. IV. 109. 4). О пеласгах как о народе, некогда населявшем Лемнос, сообщал и Павсаний (Paus. VII. II. 2).
Таким образом, в гомеровском эпосе существовало следующее представление: сначала на острове жили синтийцы, затем – потомки аргонавтов. Являлись ли последние одновременно синтийцами – не сказано. На основании сказанного реконструкция выглядит следующим образом: синтийцы → ? либо отсутствие звена → подданные Фоанта → потомки аргонавтов.
В классическую эпоху у Геродота была иная схема: население острова сменилось потомками аргонавтов, которых затем изгнали пеласги, а их, в свою очередь, покорили и выгнали афиняне. О синтийцах Геродот не сообщает. Эта схема реконструируется следующим образом: население до прихода аргонавтов → потомки аргонавтов минийцы → пеласги → афиняне.
В схолиях к Лукиану (Schol. Lukian. Katapl. 25 p. 52, 12) приводятся слова Филохора о том, что тиррены (Τυρρηνοὶ) изначально жили в Афинах, но потом были изгнаны оттуда на Лемнос и Имброс, откуда стали делать вылазки в Браврон (Βραύρωνα) в Аттике и похищать женщин (FGrHist 328 F 100).
В схолиях к Гомеру в комментарии к фразе в «Илиаде» Σίντιες ἄνδρες (Hom. Il. I 594) приводится информация, что то же самое делали пеласги (FGrHist 328 F 101).
Основываясь на анализе этих текстов, В.Р. Гущин делает вывод, что Филохор называет пеласгов в данном контексте синтийцами (Гущин, 2021: 832–834). Это выглядит сомнительным. Схолии – жанр очень спорный, нельзя определить авторство комментария и произведение, из которого приводится цитата1. В указанных схолиях к Лукиану и Гомеру, содержавших, вероятно, ссылку на один и тот же труд, по-разному именуется народ, похищавший афинских женщин. Смешение пеласгов и тирсенов – встречающееся явление в античных, особенно поздних, источниках (Яцемир-ский, 2005: 318; Сафронов, 2006: 134; Briquel, 2013: 49; Drews, 1992: 36–37; Lochner-Hüttenbach, 1960: 104; Myres, 1907: 218–219; Skinner, 2012: 107). Поэтому даже нельзя выяснить, как именовал изгнанное из Аттики население Лемноса Филохор. Идея о том, что он считал пеласгов или тирсенов на Лемносе синтийцами также не может быть подтверждена, ибо напрямую в схолиях к Гомеру об этом не говорится. Возможно, соотнесение пеласгов с синтийцами делается на основании интерпретации схолиастом этнонима синтийцев, о чём подробнее будет сказано ниже.
Также следует упомянуть характеристику Лемноса как места. Геродот пишет об ἔργα Λήμνια – «лемносских злодеяниях» (Hdt. VI. 138) (Гущин, 2021: 825), а Софокл в трагедии «Фи-локтет» словами Одиссея называет остров пустынным и необитаемым (S. Ph. 1–2).
Для уточнения представлений греков о населении Лемноса следует обратиться к археологическим и эпиграфическим данным относительно этнической истории острова. В бронзовом веке на Лемносе существовало поселение Полиохни, которое имело торговые связи с отдаленными регионами (Radivojević et al., 2019: 152). Немаловажным являлось поселение Мирина (Афонасин, 2022: 29). Население, жившее на Лемносе в бронзовый век, было связано с континентальной Анатолией (Mee, 1978: 148).
Е.В. Афонасин указывает, что неизвестно, кто проживал на Лемносе в архаический период. Нам доступна только лемносская эпиграфика, которую он связывает с тирренами. Ученый предполагает, что тиррены могли прибыть на Лемнос из Сицилии и Сардинии еще в микенский период как наемники (Афонасин, 2022: 29). Анализ эпиграфических памятников с надписями на так называемом лемносском языке показывает его довольно близкое родство с этрусским и ретским языками. На основе этого часть исследователей приходит к выводам о вхождении лемносского в тирренскую семью языков (Яцемирский, 2005; Akulov, 2024; Kretschmer, 1941). Сторонником миграции этрусков на восток из Италии, помимо Е.В. Афонасина, является Р. Дрюс (Афонасин, 2022). Но более вероятной является гипотеза о генезисе тирренских языков в эгейско-анатолийском регионе. Недавно была предложена новая интерпретация этой гипотезы нидерландским лингвистом А. Клукхорстом (Kloekhorst, 2022). Помимо этого, некоторые исследователи считают, что на Лемносе проживали карийцы2. Мифы и легенды об аргонавтах и лемносских женщинах Е.В. Афонасин считает возможными отзвуками колонизации острова жителями Фессалии (Афонасин, 2022: 29).
В промежутке между VI и V вв. до н. э. на острове присутствовали признаки насильственного захвата и наблюдался резкий культурный разрыв (Greco, Ficuciello, 2012: 166–168).
В V в. до н. э. появились эпиграфические источники на афинском диалекте древнегреческого языка (Greco, Ficuciello, 2012: 153). Вероятнее всего, это связано с захватом острова афинянами (Evans, 1963).
Существует историографическая дискуссия о судьбе покорённого афинянами населения Лемноса – было ли оно полностью уничтожено/выселено, либо какая-то часть населения осталась на острове под афинской властью (Афонасин, 2022: Mee, 1978; Greco, Ficuciello, 2012: 166– 168; Graham, 1963; Zelnick-Abramovitz, 2004).
Наиболее интересным является вопрос о том, кем были синтийцы, впервые упоминаемые Гомером. В архаическую и классическую эпоху больше нет источников, свидетельствующих о принадлежности синтийцев, их происхождении и т. д. Но размышления об этом вновь обнаруживаются у более поздних авторов. Так, Страбон связывал синтийцев с фракийскими синтами (Str. VII. 45; X. 2. 17; XII. 3. 20). Он также задавался вопросом о тождественности саийцев синтийцам (Str. X. 2. 17).
В поздних схолиях со ссылкой на труд Гелланика «Об основании Хиоса» Лемнос также связывался с синтийцами. В пояснениях к Аполлонию Родосскому синтийцы отождествлялись с тир-сенами, причем название их древними схолиастами объяснялось плохим характером населения Лемноса и фактом самого первого изготовления оружия для нанесения вреда соседям (Схолии к Аполлонию Родосскому, I. 608; Цец, схолии к Ликофрону, «Александра», 227). В Схолиях же к Гомеру синтийцы, также со ссылкой на Гелланика, отождествлялись с фракийцами (Схолии к Гомеру, «Одиссея», VIII. 294).
Если сопоставить рассказы о синтах эллинистической и римской эпох с более ранними, то можно заключить, что идея о связи синтов и синтийцев является поздним конструктом. Например, Фукидид упоминает синтов, как население в горной области Керкина рядом с областями пэонов и мэдов, ничего не говоря про их происхождение (Thuc. II. 98. 1–2).
Наряду с мэдами синтов также упоминает Псевдо-Аристотель, называя их фракийцами, но не указывая их связи с Лемносом (Arist. Mir. 841a. 27).
Судя по описаниям в приведенных источниках, синтийцы, как и пеласги, могут представлять собой вымышленный народ1 (Sourvinou-Inwood, 2003: 104–107; McInerney, 2014: 25–55). Вероятно, смешение синтийцев с синтами – «народная этимология» древних авторов, особенно, если учесть, что в классическую эпоху подобная связь не прослеживается. Но поздние схолии показывают, что, возможно, само слово «синтийцы» – экзоэтноним, данный эллинами населению острова. Это подтверждается его этимологизацией от σίνομαι – вредить (Суриков, 2022: 520). Данный экзоэтноним мог быть присвоен греками местному населению из-за его агрессивности, на мысль о которой подталкивают греческие мифы о лемносских злодеяниях. Можно предположить, что причиной этого могла быть эллинская ксенофобия. Как было продемонстрировано выше, в «Одиссее» синтийцев называют ἀγριοφώνους – грубоголосые (Hom. Od. VIII. 294). Это можно сравнить с характеристикой карийцев в «Илиаде», в которой они называются βαρβαροφώνων – буквально «варваркающие», то есть говорящие непонятно (Hom. Il. II. 867–869) (Ross, 2005). Но самое первое упоминание синтий-цев встречается у Гомера, не оценивавшего варваров в негативных красках и даже не имевшего отдельного слова для их различия с войском Атридов (Фролов, 2009). Возможно, именно в связи с негативной коннотацией этнонима синтийцев, в схолиях к Гомеру к фразе Σίντιες ἄνδρες в «Илиаде» приводится цитата Филохора о похищавших афинских женщинах пеласгах (FGrHist 328 F 101). Нет никакой информации о синтийцах в схолиях к Лукиану, ссылавшихся на тот же эпизод у Филохора, но с упоминанием тирренов вместо пеласгов (FGrHist 328 F 100). Но аргумент с греческой ксенофобией наталкивается на вопрос о том, почему синтийцами не названы подданные Фоанта, а только те, кто принял Гефеста после его падения с Олимпа. Это даёт повод для размышления о генезисе данного экзоэтнонима в ином ключе. Гефест – бог огня и кузнечного дела. М.Ю. Лаптева отмечает, что в греческих мифах Малая Азия и острова Восточного Средиземноморья воспринимались как место рождения железодеятельного дела (Лаптева, 2008: 44). А Е.В. Афонасин заключает следующее: «Остров вулканического происхождения, к тому же находящийся на пути к рудникам Малой Азии и Черноморского региона, не мог не принадлежать Гефесту, а также его потомкам и помощникам» (Афонасин, 2022: 29). Может ли легенда о Гефесте и принявших его синтийцах отражать древнегреческие представления о бронзовом веке или начале обработки железа на острове и в Эгеиде в целом? Ответить на поставленный вопрос определенно нельзя из-за ограниченности источников, но синтез обеих версий как негативных ассоциаций по отношению к острову, так и представлений о роли металлургии на нем, может пролить свет на причины генезиса этнонима «синтийцы».
Отдельной исследовательской проблемой является также то, по отношению к какому населению употреблялся данный экзоэтноним. В гомеровском эпосе не указывалось, что Лемнос населяют тиррены. Версий о времени прибытия их на остров и места, откуда они мигрировали, несколько (Kloekhorst, 2022: 201–227; Гущин, 2021: 838)1. Почти все они относят прибытие тиренов на остров ко времени складывания гомеровского эпоса, то есть примерно к IX–VIII вв. до н. э. (Клейн, 2014; Надь, 2002; Панченко, 2016; Nikoletseas, 2012; West, 1995; 2014). Поэтому отсутствие тирренов в тексте можно объяснить знанием о том, что в легендарную эпоху похода Атридов их не могло быть на Лемносе.
Сопоставление синтийцев с фракийцами в поздних схолиях можно объяснить появлением сюжета об измене мужей лемносских женщин с фракиянками (Hyg. Fabulae. 15). Но, как было сказано выше, в античных источниках нет информации о том, кто был потомком синтийцев и являлись ли ими Фоант и лемносские женщины, совершившие злодеяние против мужчин.
Вполне вероятно, что для эпоса как части фольклора не столь важно, кем были синтийцы. Подобная дискуссия в историографии существует вокруг имен кидонов, амазонок, феаков (Wace, Thompson, 1912: 252; Земцова, 2023: 28–30; Blok, 1994). Все это осложняется особенностями создаваемого эпосом мира, в котором события далёкого прошлого и других времён смешивались, наполнялись фантастическими сюжетами, выдумками, гиперболизированными элементами (Гиндин, Цымбурский, 1996: 17–21).
Но вопрос об идентификации синтийцев был важен для древнегреческих авторов, живших после гомеровских певцов и выстраивавших в своих трудах генеалогические схемы происхождения родов и народов, географические описания и т. д. Некоторые из них нашли ответ на вопрос о происхождении синтийцев в сопоставлении их имени с фракийским племенем синтов, чему способствовали как схожесть в названии, так и сюжет о связи лемносских мужчин с фракиянками.
В античности не существовало единой схемы сменяемости населения Лемноса. В гомеровском эпосе отсутствовали сведения о пеласгах и тирсенах как обитателях острова, а у Геродота и Фукидида нет данных о населении Лемноса синтийцами. Поздние авторы связывали син-тийцами с синтами, что обусловлено применением «народной этимологии». Это привело к закономерной путанице в наименованиях. Пеласгов, тирсенов, синтийцев и фракийцев позднейшие авторы, что особенно заметно на примере схолиастов, могли смешивать друг с другом в разных вариациях, что дает нам пример интереснейшей исторической реконструкции, проводимой античными мыслителями. Для архаической и классической эпох нет никаких сведений о потомках синтийцев. Население до прихода аргонавтов также не связывалось с пеласгами. А связь син-тийцев с пеласгами в позднее время – плод сопоставления синтийцев, наименование которых этимологически восходит к значению «причинение вреда», и населявших, в представлениях греков и римлян, Лемнос похитителей афинских женщин пеласгов.