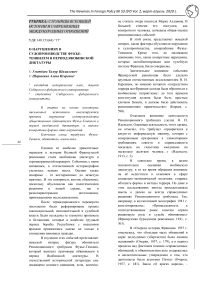О нарушениях в судопроизводстве Фукье-Тенвилем в период якобинской диктатуры
Автор: Уметбаев Тимур Шамилевич, Шарыхина Алена Игоревна
Журнал: The Newman in Foreign Policy @ninfp
Статья в выпуске: 53 (97), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе некоторых письменных источников анализируются причины нарушения судопроизводства общественным обвинителем Фукье-Тенвилем в период якобинской диктатуры, а также конкретные формы этих нарушений.
Трибунал, фукье-тенвиль, обвинитель, амальгама
Короткий адрес: https://sciup.org/14124113
IDR: 14124113 | УДК: 340.153(44)
Текст научной статьи О нарушениях в судопроизводстве Фукье-Тенвилем в период якобинской диктатуры
Одними из наиболее драматичных периодов в истории Великой Французской революции стали якобинская диктатура и термидорианский переворот. Событиям, с ними связанным, в отечественной историографии уделялось немало места. Оценки также полярные – от восторженных до зачастую мрачных. И эта полярность вполне объяснима, поскольку обусловлена как политическими реалиями в нашей стране, так и разнохарактерными источниками, привлекаемыми исследователями.
После термидорианского переворота постепенно были реформированы органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Были осуждены те элементы произвола и беззакония, которые в наиболее трудный период борьбы Республики с внешними врагами применялись далеко не только в отношении виновных граждан.
В изучении этих событий представляет немалый интерес фигура обвинителя Революционного трибунала Фукье-Тенвиля, который выносил приговоры обвиняемым в период Якобинской диктатуры. В отечественной исторической литературе ему посвящено немного внимания, если, конечно, не считать очерк писателя Марка Алданова. В большей степени его поступки, как конкретного человека, затмевала общая оценка революционных событий.
В этой связи, представляет немалый интерес, какие факторы обусловили нарушения в судопроизводстве, совершённые Фукье-Тенвилем. Кроме того, не маловажно понимание того, какие конкретные нарушения, которые дестабилизировали всю судебную систему Франции, были совершены.
Значительное внимание событиям Французской революции было уделено крупным отечественным исследователем Н. И. Кареевым, по мнению которого «посредством террора вся Франция должна была обратиться к якобинскому патриотизму: до того времени конституция должна была быть простым клочком бумаги, и должно было действовать революционное правительство» (Кареев, с. 598).
Отдельное внимание деятельности Революционного трибунала уделил Н. И. Идельсон. Оценивая деятельность этого органа, он отмечал, что трибунал «превратился в какую-то инфернальную машину, которая с совершенным презрением к элементарным требованиям совести и справедливости посылала на гильотину ежедневно по несколько десятков человек…» (Идельсон, 1913, с. 3).
В советское время, в целом положительно оценивая якобинскую диктатуру, в то же время обращали внимание на её недостатки в основном в сфере социально-экономической политики, стараясь обходить формы и методы террора. Но даже в этих исследованиях иногда проскальзывала мысль о далеко не всегда справедливых решениях Революционного трибунала. Так, например, в коллективной монографии 1941 г. констатировалось: «Принадлежность к господствовавшим ранее классам играла решающую роль в судьбе обвиняемых» (Французская буржуазная революция, 1941, с. 361).
В «Очерках истории Франции» 1957 г. отмечалось, что «большая часть обвинений в адрес подсудимых (эбертистов) была лишена оснований» (Очерки, 1957, с. 179), а в период процесса над Дантоном помимо «справедливых обвинений, в обвинительном акте содержались и несостоятельные утверждения о том, что дантонисты были агентами Питта» (Очерки, 1957, с. 181). Закон «О врагах народа», -
отмечают авторы «Очерков», - «действительно представлял собой нарушение элементарных правил судопроизводства» (Очерки, 1957, с. 182-183).
В коллективном академическом издании «Истории Франции» был затронут вопрос относительно процесса над Дантоном и Демуленом – отмечается, что Фукье-Тенвиль смог завершить процесс только «путём нарушения судебной процедуры» (История Франции, 1973, с. 63).
Гораздо более объективен в оценке судебных процессов В. Г. Ревуненков. Так, например, относительно процесса над Марией-Антуанеттой, он констатировал, что «трибунал запятнал себя, пытаясь представить бывшую королеву этаким моральным чудовищем, «новой Мессалиной», погрязшей в разврате, повинной якобы даже в «кровосмесительной связи» со своим восьмилетним сыном» (Ревуненков, 2003, с. 371).
Относительно природы и характера якобинской диктатуры в 1960-1980-е гг. в советской исторической науке развернулась целая дискуссия, на разных полюсах которой находились представители московской и ленинградской школ1. На новых дискуссионных реалиях постсоветского времени, связанных с изменениями тематик, терминологии, позиции, подробно останавливается Д. Ю. Бовыкин2. В последние годы периодически появляется немало статей, которые в той или иной степени освещают функционирование Революционного трибунала3.
Революционный трибунал был создан людьми, но его создание было обусловлено естественным ходом событий, которые поставили в повестку дня внешнюю и внутреннюю угрозу Республике. Любопытно, что Робеспьер, выступая в 1791 г. в ходе дискуссии о положениях Уголовного кодекса, предлагал «вычеркнуть из кодекса французов кровавые законы, предписывающие юридические убийства» (Робеспьер, 1959, с. 106). В 1793 г. он уже заявлял, что для революционного трибунала «существует один лишь род преступления – государственная измена, и одно лишь наказание – смертная казнь…» (Робеспьер, 1959, с. 192).
Подобная эволюция взглядов не случайна, как не случайно и появление фигур, ставших неуклонными исполнителями. Среди персонажей Французской революции конца XVIII в. Фукье-Тенвиль представлял собою скорее средство, нежели самостоятельного деятеля, хотя в пределах своей компетенции он был, конечно, самостоятелен. Приговоры не подлежали кассационной проверке и апелляции (Французская буржуазная революция, 1941, с. 360). Исполняя приказы своих благодетелей Фукье-Тенвиль, несомненно, несёт персональную ответственность и вполне ответил за это буквально своей головой.
Антуан Фукье-Тенвиль был родом из Пикардии, области северной Франции и относился к тем представителям собственников, которые в силу тех или иных обстоятельств обеднели, ввиду чего были вынуждены трудиться и настойчиво искать источники содержания семьи. Это было тем более необходимо, что у Фукье-Тенвиля было семеро детей.
Революция предоставила юристу возможность для новой прокурорской карьеры, чем он и воспользовался. В марте 1793 г. ему благодаря поддержке Камилла Демулена удалось встать во главе Чрезвычайного уголовного трибунала, который в октябре реорганизуется в Революционный трибунал.
С этого момента Фукье-Тенвиль – главный обвинитель во Франции. В его власти сообщения: Гуманитарные исследования. – 2020. – № 1 (7).
– С. 30-36; Самсаров, А. И. Демонтаж системы революционного правления во Франции в 1794-1795 гг. / А. И. Самсаров. – История. Общество. Политика. – 2019. – № 3 (11). – С. 79-84; Зарайский, В. И. Деятельность Революционного трибунала в годы Великой Французской революции / В. И. Зарайский. – Молодой учёный. – 2020. -№ 11 (301). – С. 132-135; и т.д.
оказалось не только вынесение обвинений, но и трактовка законодательных актов. Став послушным исполнителем воли Комитета общественного спасения, этот юрист изобретательно расправлялся со своими жертвами. Мнение обвинителя о применении закона становилось решающим.
Источники ярко характеризуют события, связанные с его деятельностью. Многие факты вскрыл процесс над самим Фукье-Тенвилем, который проходил уже после падения Якобинской диктатуры. Да и какая объективность могла быть соблюдена на судебном процессе, где присяжные заседатели обязаны были открыто высказать своё мнение (Идельсон, 1913, с. 7), а «официальные защитники» не могли войти в трибунал без «удостоверения в хорошей гражданственности» (Идельсон, 1913, с. 20).
Первоначально при проведении процессов трибунал не допускал грубых нарушений правил судопроизводства. Действительно, конституционные документы предусматривали защиту личности. Но Конституция 1793 г. так и не была введена в действие.
Но сама логика нового законодательства предполагала существенные изменения в порядке обвинения. Согласно Закону от 17 сентября 1793 г. в число подозрительных были включены граждане, которые не могут доказать законность своих средств к существованию, которые не молучили свидетельств о благонадёжности, а также отрешённые от должности и направленные в отставку. И, наконец, «те из бывших дворян…, которые не проявляли постоянно своей преданности к революции» (Кузнецов, 2010, с. 330).
Ещё более «замечательны» по содержанию законодательные акты о революционном трибунале. Так, декретом от 10 июня 1794 г. в число врагов народа включались виновные во введение в заблуждение народа и народных представителей «с целью склонить их к поступкам, идущим вразрез с интересами свободы». Далее ещё интереснее: «лица, пытавшиеся вызвать упадок духа для того, чтобы способствовать замыслам тиранов…» (Кузнецов, 2010, с. 334).
И когда были созданы условия, то нарушения в организации судопроизводства стали нормой. Об этом свидетельствуют сами документы судебных процессов, отражённые во французской литературе.
Зачастую свидетели не опрашивались, как было с делом Солье (1 флореаля II г.), делом Фрето (26 прериаля II г.), делом Переса (18 мессидора II г.), делом Сен-Перна (1 термидора II г.), делом Майе (6 термидора II г.) и делом Пюи де Верина (9 термидора II г.) (Dunoyer, 1913, p. 386-387).
Сестра семнадцатилетнего Сен-Перна, осуждённого и отправленного вместо своего отца на казнь, показала следующее: «Первого термидора я явилась на суд вместе с дедом, отцом, матерью, братом, мужем и несколькими подсудимыми. Мой семнадцатилетний брат, против которого не было ни одного обвинительного заключения, был приговорён к смертной казни за моего отца. Мой муж и я не получили обвинительного акта» (Dunoyer, 1913, p. 389). Далее последовала амальгама – виновных, совершенно не связанных и зачастую не знакомых друг с другом, судили по одному и тому же делу.
«Я видел в тюрьме, в которой содержался, - отмечает один из обвиняемых, - а позднее и в Консьержери (тюрьма) несчастных, которых вызвали для освобождения, а оказывалось, что они уже давно казнены. Однажды в тюрьму было прислано свыше восьмидесяти приказов об освобождении лиц, оправданных Комитетом общественного спасения, но оказалось, что Революционный трибунал тем временем уже успел казнить из них шестьдесят два человека» (цитируется по: Кабанес О., Насс Л. Революционный невроз, режим доступа:
ab/.
9-10 термидора II года Республики (2728 июля 1794 г.) в результате переворота, который и был назван термидорианским, якобинская диктатура прекратила своё существование. Фукье-Тенвиль опять проявил себя как человек, лишённый каких-либо принципов. Он постарался изменить лицо, являя себя в образе не инициатора, а честного исполнителя воли Конвента. Так, когда отец Камилла Демулена (его бывшего покровителя) обратился к Фукье-Тенвилю с просьбой о спасении сына, то получил отказ (Идельсон, 1913, с. 11).
Но Фукье-Тенвиль не учёл одного – того, что его активного участия в процессах не забудут. И он действительно в скором времени был арестован и попал в жернова той самой машины террора, активным участником которой был сам.
Когда процесс над Фукье-Тенвилем подошёл к завершению, то было вынесено следующее судебное решение: «Фукье-Тенвиль убеждён в том, что он способен на любые действия и заговоры, направленные на то, чтобы содействовать осуществлению планов врагов народа и Республики, спровоцировать национальные репрессии и свержение независимого режима, возбудить граждан идти друг против друга, путём уничтожения, в замаскированной форме суда, безжалостной толпы людей. Он приговорён к смертной казне единогласно, одиннадцатью голосами из одиннадцати» (Dunoyer, 1913, p. 394-395).
Когда Фукье-Тенвиля везли на казнь, то родственники его жертв кричали ему: «Верни мне отца, верни семью, верни брата, друга, жену, сестру, мужа, мать, детей!.. Мы отнимем у тебя слово!.. Иди к своим жертвам!». В толпе раздавались крики «Да здравствует справедливость!» (Dunoyer, 1913, p. 398).
Таким образом, два фактора стали причиной масштабных нарушений в системе судопроизводства. С одной стороны, это сам ход революции, который привёл к якобинской диктатуре. Следствием этого стало появление целого ряда законодательных актов, грубо попирающих элементарные нормы Декларации прав человека и гражданина. С другой стороны, немаловажен субъективный фактор – появление людей, подобных Фукье-Тенвилю, способных ради материальной выгоды переступать через закон.
Список литературы О нарушениях в судопроизводстве Фукье-Тенвилем в период якобинской диктатуры
- Идельсон Н. И. 1913. Революционный трибунал во Франции. Судебно-исторический очерк. СПб.: Типография т-ва "Общественная польза".
- История Франции / под ред. А. З. Манфред. 1973. - Т. 2. - М.: Наука.
- Кабанес О., Насс Л. Революционный невроз. - Электронный ресурс. - Сайт "Библиотека Гумер". - Режим доступа: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Kab/05.php.
- Кареев Н. 1893. История Западной Европы в новое время (Развитие культурных и социальных отношений) / Н. Кареев. Т. 3. СПб.: Типография М. М. Стасюлевича.
- Кузнецов Д. В. 2010. Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. Кн. 1. Ч. 1. Благовещенск: Издательство БГПУ.
- Люблинская А. Д., Прицкер Д. П., Кузьмин М. Н. 1957. Очерки истории Франции с древнейших времён до окончания Первой мировой войны. - Л.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР.
- Ревуненков В. Г. 2003. История Французской революции. СПб.: Издательство СЗАГС.
- Робеспьер М. 1959. Революционная законность и правосудие. Статьи и речи. М.: Государственное издательство юридической литературы.
- Французская буржуазная революция / под ред. В. П. Волгина и Е. В. Тарле. 1941. М.-Л.: Издательство АН СССР.
- Dunoyer Alphonse. 1913. Fouquier-Tinville, accusateur public du Tribunal révolutionnaire, 1746-1795: d'après les documents des Archives nationales. Paris: Perrin.