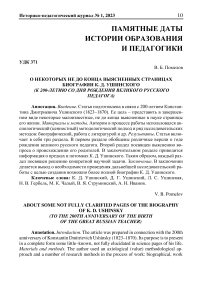О некоторых не до конца выясненных страницах биографии К. Д. Ушинского (к 200-летию со дня рождения великого русского педагога)
Автор: Помелов Владимир Борисович
Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education
Рубрика: Памятные даты истории образования и педагогики
Статья в выпуске: 1, 2023 года.
Бесплатный доступ
Введение . Статья подготовлена в связи с 200-летием Константина Дмитриевича Ушинского (1823-1870). Ее цель - представить в завершенном виде некоторые малоизвестные, не до конца выясненные в науке страницы его жизни. Материалы и методы . Автором в процессе работы использовался аксиологический (ценностный) методологический подход и ряд исследовательских методов: биографический, работа с литературой и др. Результаты . Статья включает в себя три раздела. В первом разделе обобщены различные версии о годе рождения великого русского педагога. Второй раздел посвящен выяснению вопроса о происхождении его родителей. В заключительном разделе приводится информация о предках и потомках К. Д. Ушинского. Таким образом, каждый раздел посвящен решению конкретной научной задачи. Заключение . В заключении делается вывод о необходимости проведения дальнейшей исследовательской работы с целью создания возможно более полной биографии К. Д. Ушинского.
К. д. ушинский, д. г. ушинский, л. с. ушинская, н. в. гербель, м. к. чалый, в. я. струминский, а. н. иванов
Короткий адрес: https://sciup.org/140297457
IDR: 140297457 | УДК: 371
Текст научной статьи О некоторых не до конца выясненных страницах биографии К. Д. Ушинского (к 200-летию со дня рождения великого русского педагога)
Введение . Личность великого русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского привлекает внимание отечественных исследователей на протяжении уже более полутора сотен лет, прошедших после его ранней смерти. Главное внимание ученых, – и это вполне понятно, – сосредоточено на изучении его ценнейшего научно-теоретического и методического наследия и поиске путей и форм его применения в современном российском образовании.
В то же время, публикаций, посвященных изучению биографии К. Д. Ушинского, изучению всех обстоятельств становления его как личности, гражданина-патриота и выдающегося педагога, а также его взаимоотношениям с родными и близкими, в последние десятилетия появляется крайне мало.
В предлагаемой статье поставлена цель представить в более или менее завершенном виде некоторые малоизвестные, не до конца выясненные страницы его жизни. Для достижения указанной цели автор статьи сосредоточился на решении следующих задач: обобщение различных версий времени рождения К. Д. Ушинского, анализ фактологического материала о его родителях, других родственниках и потомках.
Материалы и методы . Использование автором работы аксиологического методологического подхода позволило выявить ценные стороны исследователей биографии и наследия К. Д. Ушинского, а исследовательские методы (биографический, работа с источниками) позволили решить поставленные задачи.
Результаты. Разногласия по поводу года рождения К. Д. Ушинского. Вопрос о точной дате рождения великого русского педагога, – как это ни покажется странным всякому, кто не знакомился с его биографией, – не является решенным официально по настоящее время.
Людям, далеким от истории педагогики, в это, по всей видимости, даже трудно поверить. Широко известны точные даты жизни очень многих давно живших и куда менее значимых людей, а год рождения, – даже не день, а именно год, – несомненно, самого выдающегося отечественного педагога Ушинского и по сей день остается нерешенным однозначно как научным сообществом, так и на государственном уровне.
Рискну предположить, что этот вопрос вообще не будет решен однозначно и в дальнейшем. Чем же объясняется такое странное положение? В предлагаемом материале нами предпринята попытка собрать воедино имеющиеся аргументы, указывающие в пользу различных версий о годе рождения К. Д. Ушинского.
Отечественными исследователями установлено, что Константин Дмитриевич Ушинский родился 19 февраля 1823 года по старому стилю, т. е. по Юлианскому календарю. Это соответствует дате 3 марта по новому стилю, т. е. по Григорианскому календарю. День рождения К. Д. Ушинского не вызывает сомнений. А вот год является своего рода «камнем преткновения».
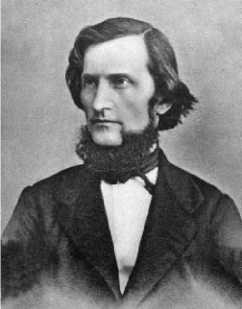
Родители Кости Ушинского по какой-то причине сразу после его рождения не выправили метрическое свидетельство, а в дальнейшем получение этого необходимого для каждого гражданина документа оказалось делом небыстрым и очень хлопотным. В 1832 г., когда сыну было уже девять лет и пора было готовить его к поступлению в гимназию, мать Кости Любовь Степановна специально приезжала в Тулу, – город, где мальчик родился, – для его оформления.
Получение документа сильно осложнялось тем, что к этому времени священник Всехсвятской церкви, когда-то крестивший новорожденного, уже умер, а церковь, будучи всего лишь кладбищенской, не имела собственного прихода, и, соответственно, не вела метрическую книгу.

С первого приезда Любови Степановне так и не удалось добиться получения документа. Спустя полгода к решению вопроса подключился отец, Дмитрий Григорьевич. Для обеспечения выполнения всех необходимых процедур супругам Ушинским пришлось даже специально нанимать поверенного в делах, местного канцеляриста И. Е. Хлебникова, человека, искушенного в решении подобных запутанных дел.

В итоге, 8 февраля 1833 г. тульский благочинный протоиерей
Старо-Никитской церкви Федор Русаков на основании свидетельских показаний повивальной бабки А. Акимовой, пономаря А. Сергеева, титулярной советницы П. А. Молчановой и старшего сына Д. Г. Ушинского Александра, родившегося вне брака и по закону не считавшегося родственником, – в своем рапорте подтвердил факт законности рождения и крещения младенца Константина Ушинского 19 февраля 1823 г.
Автор одной из первых кандидатских диссертаций об Ушинском Николай Васильевич Зикеев (1902– 1970) в архиве МГУ (опись 1840 г., д. № 510) обнаружил составленное Тульской духовной консисторией свидетельство о рождении К. Д. Ушинского. Ниже приводится его содержание.
«По указу его императорского величества из Тульской духовной консистории дано сие надворного советника Дмитрия Григорьевича Ушинского сыну Константину для записи его в какое-либо казенное учебное заведение в том, что, хотя день рождения его, Константина, 1823 года февраля 19-го числа крестившим его города Тулы Всесвят-ской кладбищенской церкви священником Иваном Семеновым, впоследствии умершим, в метрическую книгу и не мог быть записан, потому что кладбищенским церквам, яко бесприходным, таковые книги от консистории не выдавались, да и к собранию сведений из исповедных ведомостей приступить нет возможности, потому что господин Ушинский на другой год по рождении оного Константина переместился, как из послужного его списка видно, из Тульской в Полтавскую казенную палату, и он там, пожив два года, переместился в канцелярию г. министра финансов. Следовательно, господин Ушинский на одном месте постоянного жительства не имел, а потому и в исповедных росписях при семействе его оный сын не мог писаться, особенно по его малолетству, коему ныне только еще десятый год. Но при рассмотрении времени и законности рождения оного Константина следователям под присягой показали бывший при той кладбищенской церкви пономарь Алексей Сергеев, титулярная советница Прасковья Александровна Молчанова и тульская мещанка вдова Анна Акимова, что подлинно они 1823 года февраля 19 дня были при крещении помянутого Константина – Молчанова восприемницей, а Акимова – повивальной бабкой, а восприемником старший сын его, Ушинского, Александр, а притом оный Константин и по послужному списку родителя его, господина Ушинского, показан в числе законных детей, имеющих о своем рождении из других консисторий свидетельства. Посему консисто-риею определено, его преосвященством Дамаскином, епископом Тульским и Белевским кавалером, утверждено: приемля в основание все вы-шепрописанные удостоверения, признать означенного Константина законным г. Ушинского сыном, родившимся тысяча восемьсот двадцать третьего года февраля девятнадцатого дня и потому выдать ему о том на прописанный случай свидетельство, каковое и дано ноября 30-го дня 1833 года. Подписали: протоиерей Иоанн Романов, секретарь Пармен
Спорев, губернский секретарь Касио-нов. М. П. № 2895. Верно: Коллежский секретарь М. Ларионов [Документы из…, 1952, с. 239–240].
Метрическое свидетельство было составлено в Тульской духовной консистории на основании вышеуказанных свидетельских показаний. Однако консистория дополнительно запросила от поверенного ряд документов и, в частности, разъяснение о местожительстве просительницы, т. е. Л. С. Ушинской, причем разъяснение должно было поступить от церковного прихода, в котором она состояла. Разумеется, она состояла в приходе, но по месту жительства, т. е. совсем в другой губернии.
Такого рода дополнительные требования по существу своему никак не были связаны с выдачей метрического свидетельства, и грозили затянуть на неопределенное время получение метрики. Цель такого рода канцелярских «задержек» известна в России едва ли не каждому, кто добивался получения каких-либо рода справок и выписок…
Поэтому с целью ускорения решения вопроса Д. Г. Ушинский 27 ноября 1833 г. был даже вынужден представить в консисторию прошение аж на имя императора Николая I с приложением своего формулярного списка, в котором были указаны его воинские и служебные перемещения, а также перечислены награды и заслуги на службе Отечеству, и которое он грозил в случае задержки в выдаче метрики отправить непосредственно царю.
Только после этого с санкции епископа 30 ноября 1833 г. герою Бородинского сражения, т. е.
Д. Г. Ушинскому, на руки было выдано свидетельство о рождении сына Константина с указанием даты, – 19 февраля 1823 г.
…Спустя тридцать лет уже его сыну, т. е. К. Д. Ушинскому понадобились документы для определения своего старшего сына Павла (1852– 1870) в военную гимназию. Только тут Константин Дмитриевич вспомнил о том, что, когда он увольнялся с должности чиновника департамента иностранных вероисповеданий министерства внутренних дел (МВД) в связи с ликвидацией указанного департамента, свои личные документы, и, прежде всего, собственное метрическое свидетельство, он просто забыл забрать с собой, и оставил документы по месту службы.
После увольнения из МВД события в его жизни складывались таким образом, что без этих, казалось бы, важнейших для каждого человека документов, в течение целого ряда лет он как-то обходился, и даже не позаботился о том, чтобы получить их.
Но наступил такой момент, когда они ему действительно потребовались. Разумеется, он обратился по месту своей бывшей службы. Однако, там ему пояснили, что его документы сгорели во время пожара, случившегося в здании министерства в начале 1860-х гг.
После этого К. Д. Ушинскому ничего не оставалось как вести длительную переписку с рядом учреждений с целью получения от них справок, которые бы могли бы заменить собой утраченные документы.
Выдающийся лингвист, член-корреспондент АН СССР, профессор
Василий Ильич Чернышёв (1867– 1949) первым среди советских исследователей биографии и педагогического наследия Ушинского обратился к вопросу об определении года его рождения. Длительное время он безуспешно разыскивал метрическое свидетельство Константина Дмитриевича, обращаясь в соответствующие службы в тех городах, в которых работал Дмитрий Григорьевич, отец великого педагога.
В ответ на свои многочисленные запросы он получал копии служебных формуляров, в которые, как и сейчас, вписывались данные о детях сотрудников. При этом в формулярах указывались обычно не год рождения ребенка, а его возраст, причем в одних случаях в формуляр вписывалось полное количество лет, в других – неполное. Ясно, что при этом точно определить год рождения не представлялось возможным.
Тогда В. И. Чернышёв обратился в архив МГУ имени М. Н. Покровского, ныне имени М. В. Ломоносова, а в годы учебы в нем К. Д. Ушинского это был Императорский Московский Университет. Там ему выдали копию свидетельства об окончании Ушинским Новгород-Северской гимназии, где был указан год его рождения – 1823-й.
На этом годе В. И. Чернышёв и остановился. Именно 1823 год считают подлинным годом рождения Ушинского большинство отечественных исследователей.
Исследования различных аспектов биографии К. Д. Ушинского предпринимались в 1930–1950-е гг. действительными членами Академии педагогических наук РСФСР Евгением Николаевичем Медынским (1885–1957) и Давидом Онисимовичем Лордкипанидзе (1905–1992), но к каким-то определенным выводам по данному вопросу они так и не пришли.
Наконец, в 1960-х гг. историк-архивист А. А. Петухов и профессор Ярославского государственного педагогического института имени К. Д. Ушинского Анатолий Николаевич Иванов (1910–1991) обнаружили в государственном архиве Тульской области документы, относящиеся к биографии К. Д. Ушинского, которые подтверждали указанную дату и год его рождения.1
В статье «Воспоминания об обучении в Новгород-Северской гимназии» сам К. Д. Ушинский вспоминает: «Мать моя умерла, когда мне не было еще 12 лет» [Ушинский, 1988, с. 314]. А умерла она, как известно, в январе 1835 г. (Точная дата смерти осталась неизвестна). В феврале у награжден медалью К. Д. Ушинского за ценные изыскания, связанные с жизнью и деятельностью Ушинского в годы его жизни и деятельности в Ярославле. Президиум Академии Педагогических наук РСФСР в декабре 1964 г. присудил А. Н. Иванову премию имени К. Д. Ушинского.
Константина Ушинского день рождения, ему исполнилось 12 лет. Отсюда также следует, что он родился в 1823 г. Наконец, в том же 1835-м году Костя Ушинский стал реально посещать гимназию, став учеником сразу третьего класса. (До этого он два года занимался с мамой дома, а в гимназию приходил сдавать переводные экзамены за 1-й и 2-й классы).

А. Н. Иванов
На этом, казалось бы, можно было бы и поставить точку в вопросе о годе рождения К. Д. Ушинского. Однако в некоторых публикациях разных лет приводятся аргументы в обоснование предположения о том, что Константин Дмитриевич родился все-таки в 1824 году.
Так, член-корреспондент АПН РСФСР В. Я. Струминский (1880– 1967) на основании вышеприведенной цитаты из Ушинского («Мать моя умерла, когда…») сделал вывод о том, что Ушинский родился в… 1824 г. Цитируем Василия Яковлевича по его монографии «Очерки жизни и педагогической деятельности К. Д. Ушинского», вышедшей в 1960 г.: «1835 год. В августе-сентябре этого года Ушинскому, по его собственным словам, не было еще 12
лет, т. е. было 11 с половиной лет, так как он родился 18 февраля.2 Возвращаясь с 1835 г. на одиннадцать лет назад, получаем 1824 год — совершенно точную и определенную неофициальную дату рождения Ушинского» [Струминский, 1960, с. 27].
Такое утверждение выглядит странным. Ушинский в своих воспоминаниях вовсе не говорит о том, что ему в августе-сентябре не было еще 12 лет. Его слова, – «…не было еще 12 лет», – относятся ко времени смерти матери, т. е. к самому началу 1835 г., – тогда ему действительно еще не исполнилось двенадцать, – и увязывает он их в связи со смертью матери, а вовсе не с «августом-сентябрем», как пишет В. Я. Струмин-ский.
Совершенно ясно, что в «августе-сентябре», т. е. к началу учебного года, Константину уже исполнилось 12 лет. Тем не менее, увы, эта позиция маститого историка педагогики, – 1824 год как год рождения Ушинского, – стала официально узаконенной.

В. Я. Струминский
В своей монографии
В. Я. Струминский указывает, что
1824-й, как год рождения Ушинского подтверждали авторитетные свидетели [Струминский, 1960, с. 27]. При этом автором монографии называются такие действительно звучные имена, как университетский товарищ и друг Ушинского, автор первого обстоятельного некролога о нем Юлий Семенович Рехневский (1824–1887) [Рехневский, 1871], первый биограф Константина Дмитриевича, его личный секретарь в последние годы жизни Александр Федорович Фрол-ков [Фролков, 1881], журналист и издатель журнала Альберт Викентьевич Старчевский (1818–1901).
Помимо них с воспоминаниями о К. Д. Ушинском выступили близкий товарищ Ушинского по гимназии Михаил Корнеевич Чалый (1816– 1907) [Чалый, 1874], ближайший друг Лев Николаевич Модзалевский (1837–1896) [Полосин, 1946], воспитанница Смольного института Елизавета Николаевна Водовозова, урожденная Цевловская (1844–1923) [По-мелов, 2016], автор биографии Ушинского в биографической библиотеке Ф. Ф. Павленкова Матвей Леонтьевич Песковский (1843–1903) [Помелов, 2018], наставник Ушинского в студенческие годы Петр Григорьевич Редкин (1808–1891) [Поме-лов, 2020], преподаватель Смольного института Дмитрий Дмитриевич Семенов (1835–1902) [Помелов, 2018] и целый ряд других авторов.
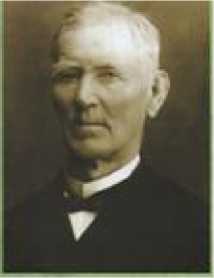
М. К. Чалый
М. К. Чалый, например, вспоминал: «В III классе обратил на себя внимание всего класса, как привлекательной наружностью, так и своим почти детским возрастом, миловидный мальчик лет 12 – Костя Ушинский. Ему не было полных 12 лет. Между тем в III классе были старожилы, которым кончался уже второй десяток лет. Пребывание с ними в одном классе грозило новичку неприятностями. На новичка Костю, мальчика женственного, деликатного сложения, всегда чистенько одетого, наши 18–20-летние молодцы с первого же дня поступления в их общество посмотрели косо и стали чинить ему разные гадости» [Чалый, 1889, с. 303]. Ю. С. Рехневский в некрологе отмечал, что Ушинский в университете выглядел моложе своих лет [Рех-невский, 1871].
Эти высказывания товарищей детства и юности К. Д. Ушинского сами по себе могут, разумеется, иметь определенную значимость, но они ни в коем случае не способны служить основанием для вывода о конкретном годе его рождения. Все упомянутые выше биографы «первой волны» не изучали оригинальные документы, которые бы могли подтвердить высказывавшуюся ими позицию относительно года рождения Ушинского. Об этом многие из них, кстати, прямо пишут в своих воспоминаниях.
Каждый из них писал свой некролог или очерк, руководствуясь исключительно своими личными впечатлениями об Ушинском, не прибегая к архивным сведениям, и не придавая какого-либо значения году его рождения.
В. Я. Струминский высказал предположение о том, что родители Константина видели, что способности Кости быстро развиваются, и решили не ждать еще один год, а потому определили сына в гимназию, не дожидаясь, пока тому исполнится 10 лет. Для этого, дескать, и нужно было в свидетельстве от консистории указать 1823 год, т. е. «прибавить» в документах мальчику один год, а фактически он родился, по мнению Струминского, в 1824 году. С таким свидетельством К.Д. Ушинский уже в 1833 г., будучи девятилетним мальчиком, мог быть зачислен в гимназию, что и произошло. (Другое дело, что первые два года он обучался экстерном).
Это предположение не выдерживает критики, так как трудно предполагать, что Д. Г. Ушинский, называя в разных документах и в разное время точные даты рождения всех своих других детей, все время лгал относительно даты рождения Константина. К тому же, это означает, что все вышеназванные свидетели, на основании показаний которых было выдано метрическое свидетельство, также сознательно вводили в заблуждение консисторию.
Такое просто невозможно предположить, тем более, что свои показания они давали под присягой, а лжесвидетельство строго наказывалось законами Российской империи. Да и чего ради им, людям никоим образом друг с другом не связанным, и не имевшим никаких обязательств перед Ушинскими, было давать лживые показания?
Все приведенные выше аргументы, казалось бы, не дают оснований для того, чтобы сомневаться в том, что К. Д. Ушинский родился именно в 1823 г. Однако, тем не менее, год рождения К. Д. Ушинского, – 1824 год (!), – содержится в Постановлении Совета Министров РСФСР № 398 от 25 июня 1946 г.
Этим постановлением было утверждено описание медали К. Д. Ушинского, которая вручается педагогам-ученым за крупный вклад в развитие педагогической науки, и является официальной ведомственной наградой Министерства науки и высшего образования РФ.
Что же повлияло на принятие решения о том, чтобы считать 1824 г. годом рождения Ушинского?
Возможно, решающим аргументом стала позиция В. Я. Струмин-ского. В середине ХХ в. он, безусловно, являлся самым авторитетным исследователем творчества К. Д. Ушинского. Так, он был редактором XI-томного издания трудов великого русского педагога в 1940– 1950-х гг. Именно он указал «правильные», с его точки зрения, дату и год рождения К. Д. Ушинского – 3 марта 1824 года.
С тех пор эта дата и этот год только что не канонизированы. Все официальные чествования памяти этого великого русского педагога «отталкивались» именно от них.
Более того, на медали К. Д. Ушинского имеется надпись «1824–1871». По первому году, – 1824, – нам, что называется, сейчас «всё ясно». А вот 1871 год указан в связи с тем, что по Григорианскому календарю, т. е. по новому стилю, смерть Ушинского пришлась на 3 января 1871 г.
При этом учредителями медали, т. е. правительственными и просвещенческими чиновниками тех лет, совершенно не учитывался тот очевидный факт, что Ушинский жил и умер в соответствии с Юлианским календарем, т. е. в 1870 году, задолго, – за 48 лет! – до перехода России, – точнее, уже РСФСР, – на Григорианское летоисчисление с февраля 1918 г., т. е. спустя много лет после смерти К. Д. Ушинского.
Вот почему нет никакой надобности «оформлять» дату его смерти «новым стилем» и вообще каким-либо образом увязывать ее с «новым стилем». В этой связи не только год рождения и год смерти «по Струмин-скому», – 1824 и 1871, – но и даты рождения «по Струминскому», – 18 февраля и 3 марта, – также вводят в заблуждение; правильно бы было указывать датой рождения 19 февраля, датой смерти – 22 декабря, а годами жизни – 1823–1870.
Также следует заметить, что, если в 1946 г. надпись на медали
«1824–1871» была своего рода проявлением просоветской идеологии, поскольку на «новый стиль» в РСФСР перешли в 1918 г. – то сейчас ее сохранение на аверсе медали представляется явным анахронизмом, и, безусловно, требует необходимой по-правки.3

Медаль Ушинского
1871 год как год смерти Ушинского «всплыл» в 1945 г., когда на государственном уровне было решено отметить 75-летие со дня… смерти, – да, да, именно смерти, – великого педагога! Официальные торжества проводились 3 января 1946 г., в день 75-летия со дня смерти Ушинского по новому стилю .
Сейчас торжества по поводу смерти кого бы то ни было представляются делом просто невероятным, даже кощунственным, но в сталинские времена это было нормой. Например, в печально памятном 1937 году с невероятным размахом, широко и на государственном уровне, отмечалось столетие со дня… смерти А. С. Пушкина…
Родители К. Д. Ушинского
Вопрос о происхождении родителей К. Д. Ушинского, особенно его матери, также требует окончательного выяснения. Родителями будущего великого педагога были Дмитрий Григорьевич и Любовь Степановна Ушинские. Ниже приводятся все известные нам, причем, весьма скудные, данные о родителях и некоторых других родственниках Константина Дмитриевича Ушинского и его супруги.
Д. Г. Ушинский родился в 1787 г. в семье небогатого помещика Харьковской губернии. У Дмитрия Григорьевича были два брата, – Моисей (ок. 1770–?) и Владимир (1777–?). Об этих братьях известно следующее.
Моисей был женат на Ульяне Федоровской, был коллежским советником и членом кружка Александра Александровича Палицына (1741–1816), литературного деятеля и переводчика. Палицын был автором первого перевода на современный русский язык «Слова о полку Игореве»; он перевел на русский язык также «Плач Ярославны» и некоторые произведения французских просветителей. В его имении Поповка (теперь село Зализняк, Сумского района, Сумской области, Республики Украина), в шутку прозванном «Поповской академией», бывали Григорий Сковорода, Иван Срезневский, Василий Каразин и другие видные деятели культуры того времени. Это и был его «кружок». Кстати, именно здесь впервые был поднят вопрос о создании Харьковского университета, и эта идея была вскоре реализована.
Собственно, Моисей и вошел-то в историю тем, что он был одним из членов «кружка», и общался с указанными выше известными людьми.
Другой брат, Владимир посвятил свою жизнь флоту. Был командиром (начальником) Охотского порта (1818–1823), и даже имел звание контр-адмирала. В зрелые годы, уволившись со службы, переехал в свое имение на Черниговщине, где слыл активным членом губернского дворянского собрания. Жену Владимира звали Катерина Карловна.
Кстати, настоящая фамилия Дмитрия Григорьевича была Вошин-ский . Однако в силу того, что фамилия звучала неблагозвучно, он поменял ее на Ушинский. Д. Г. Ушинский получил весьма высокое для того времени образование в благородном пансионе при Московском университете, позволившее ему впоследствии занимать довольно высокие и ответственные должности на гражданской службе.
По окончании пансиона он служил в армии, и, между прочим, участвовал в Бородинском сражении. В 1817 г. вышел в отставку, и перешел на гражданскую службу, на которой трудился еще в течение 18-ти лет.
Вопрос о принадлежности к дворянскому сословию в то время был очень значимым для представителей интеллигенции, к которой принадлежал и будущий великий педагог, поскольку К. Д. Ушинский все время работал именно в дворянских учебных заведениях.
Потому для него было важно числиться дворянином; это придавало престиж и поднимало человека в глазах окружающих. В послужных списках он, поэтому, «скромно» указывал, – «из дворян».
Изначально, однако, его отец вовсе не принадлежал к дворянскому сословию; точнее, он не принадлежал изначально к потомственному дворянству, а заслужил это почетное для того времени звание длительной, продолжавшейся почти полвека беспорочной службой, – сначала военной, а потом и гражданской. И только 25 октября 1838 г. Черниговское дворянское депутатское собрание, установив на основании послужного списка Д. Г. Ушинского, что он «приобрел в действительной воинской и гражданской службе воинские штаб-офицерские чины, приносящие потомственное дворянство, постановило сопричислить Д. Г. Ушинского вместе с детьми его в число дворян Черниговской губернии» [Документы из…, 1952, с. 244].
Документ о «сопричислении» Д. Г. Ушинского с детьми к дворянскому званию хранился в архиве Московского государственного университета (опись 1840 г., дело № 510). Из этого документа и явствует, что отец Ушинского не был дворянином по происхождению, но приобрел потомственное дворянство в результате своей продолжительной, добросовестной службы в армии и в качестве чиновника различных финансовых учреждений.
До «сопричисления» к дворянскому сословию Д. Г. Ушинский был военнослужащим, а потом гражданским чиновником. Долголетняя служба на обоих поприщах и образование дали ему законное право на получение личного дворянства, которое распространялось и на его законнорожденных детей.
В числе детей Д. Г. Ушинского, причисленных к дворянскому званию, в документе указаны Константин, Сергей и Екатерина. При этом не упоминается старший сын Д. Г. Ушинского Александр, родившийся 12 апреля 1817 г. вне брака [Документы из…, 1952, с. 241].
Кто была мать Александра, осталось неизвестно. Александр периодически присутствовал в истории семьи Ушинских. У него, по всей вероятности, было гуманитарное образование; он проявил себя на литературном и журнальном поприще рядом статей и книг, которые подписывал А. Ушинский .
О жизни Д. Г. Ушинского сохранилось немного сведений. К великому сожалению, К. Д. Ушинский не оставил фактически никаких воспоминаний о своей семье и родственниках, что крайне затрудняет изучение его биографии. В своих скудных и кратких воспоминаниях он даже не вспоминает об отце, а о матери говорит вскользь.
Видимо, воспитательная деятельность отца, если только она была вообще, не оставила в душе юного Константина каких-либо положительных воспоминаний. Зато очень подробно он рассказывал, например, о Новгород-Северской гимназии, в которой учился, об ее внешнем виде и устройстве, и, разумеется, об ее директоре Илье Федоровиче Тимков-ском [Помелов, 2022, с. 116].
К тому же, по всей вероятности, К. Д. Ушинский не считал биографические подробности жизни своих родителей фактами, имеющими какую-либо общественно значимую ценность. К тому же, мать умерла, когда он был совсем ребенком; по сути дела, в зрелые годы он ее уже плохо помнил.
Да и вспоминать свое детство ему, видимо, не очень хотелось, в силу того, что отец крайне мало проводил времени непосредственно с семьей; все силы он направлял на материальное обеспечение своего достаточно большого семейства, и для этого, – так уж сложилась его жизнь, – ему приходилось жить и работать, по большей части, вдали от жены и детей.
Д. Г. Ушинский поступил на военную службу 3.IV.1807 г. Поначалу в звании прапорщика он занимался обучением основам военного дела призванной на армейскую службу дворянской молодежи. 26 ноября того же года за усердную и ревностную службу и «скорое доведение дворян к познанию порядка воинской службы» по высочайшему повелению он был произведен в поручики. 20.XII. 1808 г., согласно его просьбе, Ушинского перевели в пехотный полк. 9.V.1810 г. за «скорое сформирование из рекрутов батальона и доведение к службе» его произвели в штабс-капитаны.
25.I.1812 г., а также в начале 1813 г. и в конце 1814 г., Д. Г. Ушинский был командирован для набора кандидатов в элитные войска. Эта работа предполагала изнурительные, продолжительные командировки по всей стране. Всего им было рекрутировано, а затем и подготовлено к выполнению боевых задач восемь тысяч гренадеров и гвардейцев. За успешное решение этой важной задачи он был 10.VIII.1815 г. произведен в майоры.
Мать будущего великого педагога Любовь Степановна родилась в 1796 г. По всей вероятности, Дмитрий Григорьевич и Любовь Степановна поженились в период между 1817 г. и 1820 г.
Социальное положение родителей К. Д. Ушинского было таковым, что их никак нельзя было отнести к «старинному дворянскому малороссийскому роду», как пишут некоторые биографы. Как мы видим, отец только после прохождения целого ряда воинских и гражданских должностей, на шестом десятке лет был причислен к дворянскому званию; он добился потомственного дворянства тяжелым многолетним трудом.
Правильнее было бы определить его не как дворянина, а, скорее, как добросовестного военнослужащего и гражданского чиновника первой половины XIX в.
Мать, как до сих пор принято писать в некоторых публикациях о семье Ушинских, происходила из дворянского рода Капнистов, давшего России известного литератора Василия Васильевича Капниста (1758–1823).
В частности, А. В. Старчевский и М. Л. Песковский указывали, что Дмитрий Григорьевич «вступил в брак с дочерью местного капиталиста, урожденной Капнист» [Песков-ский, 1893, с. 9].
Первым это словосочетание, – «дочь местного капиталиста», – использовал гимназический товарищ Кости Ушинского М. К. Чалый, хорошо знавший семью Ушинских именно в период детских лет будущего педагога. Он же утверждал, что мать К. Д. Ушинского носила в девичестве фамилию Гусак, отчего ее в обиходном разговоре и называли Гу-саковна [Чалый, 1874, с. 45].
Ближайший университетский товарищ Ю. С. Рехневский также сообщал в некрологе, что «мать его была урожденная Гусак» [Рехнев-ский, 1871].
Следует заметить, что знакомство того же М. Л. Песковского с Ушинским было, как говорится, шапочным; поэтому в своем очерке об Ушинском для биографической серии Ф. Ф. Павленкова он использовал данные, которые ранее приводил в своей статье Чалый, опираясь на личные детские воспоминания.
Редактор Старческий и преемник Ушинского в должности редактора «Журнала министерства народного просвещения» Рехневский, хотя и имели с Ушинским достаточно тесные деловые и дружеские отношения, – причем Рехневский знал Ушинского еще по совместной учебе в университете, – но все-таки надо иметь в виду, что ими были написаны не научные работы об Ушинском, а всего лишь некрологи, в которых они также, как и Песковский, использовали ранее опубликованные материалы, а собственного исследования биографии Ушинского вообще не проводили. Песковский, например, написал целую небольшую книжку объемом в 70 страниц, но большая часть опубликованного в ней материала напоминает нечто вроде средневековых «Житий святых», которые, как известно, изобилуют «хвалебными словесами», но содержат слишком мало конкретных фактов.
Это тем более досадно, если иметь в виду, что все они имели возможность общаться не только с самим Ушинским, но и с его ближайшими родственниками, коллегами и т. д. Поэтому их работы нам дороги и важны, прежде всего, как воспоминания лиц, имевших прямое отношение к К. Д. Ушинскому и его семье, но при решении задач, которые поставил в данной статье ее автор, они вряд ли могут служить серьезным ориентиром.
В 1950-е гг. профессором Ярославского пединститута А. Н. Ивановым на основании подлинных документов было доказано, что настоящей фамилией матери К. Д. Ушинского была Карпинская.
Она была дочерью статского советника Степана Степановича Карпинского (1742–?) из Черниговской губернии и его жены Меланьи Федоровны (до 1809–?), урожденной Псёл, а к Капнистам и Гусакам, и вообще к каким бы то ни было «капиталистам», никакого отношения не имела [Иванов, 1973, с. 18].
Скорее к ним, к капиталистам, имела некоторое отношение вторая жена Д. Г. Ушинского. Но об этом чуть позже.
Через два дня, – так уж совпало! – за выслугу лет был произведен в надворные советники. 4.XI.1826 г. «по высочайшему соизволению» помимо должности советника по палате Дмитрий Григорьевич был утвержден в звании члена Вологодского тюремного комитета и исправлял должность Вологодского вице-губернатора. 11.VII.1832 г. «вследствие предписания господина министра финансов перемещен из советников в губернские казначеи с переводом в 7-й класс». 17.V.1833 г. Д. Г. Ушинский получил назначение советником «по хозяйственному отделению» в Олонецкой казенной палате. 23.II.1838 г. он был уволен с должности казначея [Документы из…, 1952, с. 242–243].
На этом закончилась его гражданская служба, и он, наконец, воссоединился с детьми в г. Новгород-Се-верск Черниговской губернии. Здесь он подал заявление о включении его в дворянскую родословную книгу Черниговской губернии, а в 1840 г. был избран на ответственную должность уездного судьи. После смерти жены, последовавшей в январе 1835 г., Д. Г. Ушинский унаследовал в собственность принадлежавшие ей по наследству большой дом с садом на окраине города и два хутора, – Соло-ный и Павловский, с сотней десятин земли и тридцатью крепостными крестьянами.
А. Ф. Фролков описывал поместье Ушинских, как дом с обширным двором, службами и прекрасным фруктовым садом. В своих воспоминаниях сам К. Д. Ушинский дает гораздо более скромное описание; называет этот «устроенный на барскую ногу» дом куда как проще, а именно как «домик моего отца», и хуторок, «куда никто не заглядывал» [Ушинский, 1988, с. 314].
Впрочем, он тоже отмечает «прекрасное местоположение» хутора, «богатое самыми живыми и разнообразными ландшафтами», а также «огромный старый сад, изрытый переполненными зеленью оврагами». Всё это вместе взятое, отмечает Константин Дмитриевич, рано развило в нем любовь к природе [Ушинский, 1988, с. 314].
Здесь же, правда, он с горечью замечает: «Мать моя умерла, когда мне не было еще 12 лет, а отец по смерти матери почти не жил дома, так что жил я один с меньшим братом моим в том хуторке [Там же, с. 314].
Профессор И. И. Полосин отмечал, что «двенадцать крестьянских дворов хорошо кормили, обували, одевали Ушинских» [Полосин, 1946, с. 120].
С этим, если можно так выразиться, «благостным», но, увы, не основанным на каких-либо документах или воспоминаниях утверждением, трудно согласиться уже потому, что в таком случае невольно возникает вопрос, зачем тогда Дмитрию Григорьевичу понадобилось вести по окончании военной службы прямо-таки мученическую жизнь, обрекая себя на многотрудную службу в разных городах России, причем в постоянном отрыве от семьи. При этом он имел военную пенсию.
Даже смерть жены не позволила ему сразу же вернуться в Новго-род-Северск, где его ждали малолетние дети, оставленные на попечение чужих людей. При этом дети рождались у него не в Новгород-Северске, а в городах по месту его службы. Любовь Степановна вместе с детьми в 1820-х гг. была вынуждена преодолевать все трудности едва ли не походной жизни, будучи постоянно готовой к тому, чтобы вслед за мужем постоянно менять место жительства.
Согласно данным трех метрических свидетельств Тульской и Вологодской духовных консисторий 28.VII.1832 г. за № 1868–1869 и ноября 1833 года за № 28–29 у надворного советника Дмитрия Григорьевича сына Ушинского законно родились дети: Константин 1823 г. февраля 19-го, Сергей – 1829 г. июля 28го, и дочь Екатерина 1831 г. ноября 24-го числа [Документы из…, 1952, с. 243]. (Константин родился в Туле, Сергей и Екатерина – в Вологде).
В некоторых источниках упоминается также сын Владимир, родившийся 3 февраля 1819 г., вскоре скончавшийся [К. Д. Ушинский…, 1994, с. 24].
Любовь Степановна стоически переносила все тягости страннической жизни, перебрасывавшей мужа в различные города России. По мере роста численности семьи такая жизнь становилась для нее все более нестерпимой. Даже в те годы, когда они жили вместе, муж целыми днями пропадал на службе, а ей оставалось заботиться о создании уюта там, где семья вовсе не собиралась долго оставаться. Вот почему причитавшийся ей по наследству дом с садом с годами становился для Любови Степановны все более притягательной целью, символом устойчивости в жизни. В действительности же он был лишь временным приютом для семьи. К тому же, все более очевидной становилась необходимость постоянного места жительства для обучения детей.
Подошло время поступать в гимназию Косте, подававшему большие надежды в плане успехов в учебе. 10 октября 1833 г. он был записан учеником 1 класса в Новгород-Северскую гимназию, и Любовь Степановна поселилась в Новгород-Се-верске. Но уже в январе 1835 г. она скончалась, а ее муж был вынужден продолжить службу в Вологодской губернии. В Новгород-Северск он перебрался только в 1838 г.
Всё время после смерти матери Костя, Сережа и Катя были на попечении чужих людей. Не в этом ли причина столь, на первый взгляд, странного замалчивания будущим писателем и педагогом своего собственного детства в крайне кратких воспоминаниях.
К. Д. Ушинский стал автором большого количества трудов, в которых неустанно подчеркивал роль матери и отца в воспитании ребенка, выделял значение семейного уюта в формировании личности ребенка, но при этом он ни разу (!) не сослался на пример из своей жизни и из своего детства, первое десятилетие которого прошло в постоянных переездах с места на место, а дальше…
Дальше была смерть матери, жизнь с мачехой. Правда, некоторые биографы утверждали, что вторая жена Дмитрия Григорьевича вполне заменила детям родную мать. Так, М. К. Чалый писал, что мачеха Кости, немка по происхождению, усердно учила его немецкому языку. В гимназии, по утверждению М. К. Чалого, юный Ушинский поэтому блистал на уроках немецкого, правильно декламировал и даже переводил Фридриха Шиллера.
В 1837 г. Д. Г. Ушинский женился на Наталье Васильевне Гер-бель, дочери Василия (Вилима) Родионовича Гербеля и его жены Елены Фридерики. У Натальи Васильевны были четыре брата, – Родион, Егор, Василий и Федор, а также сестра Шарлотта, в замужестве Дан- зас.
Всё это были люди, оставившие свой след в истории России, особенно, один из братьев Натальи Васильевны, генерал-лейтенант Василий Васильевич Гербель (1790–1870), «командир», т. е. директор Шостен-ского (ныне Шосткинского) порохового завода в 1832–1849 гг.
Завод был одним из крупнейших военных заводов России, существует он и сейчас. В советские годы там выпускался большой объем кино и фото материалов, в частности, кинопленка марки «Свема».
Кстати, В. В. Гербель, также, как и Д. Г. Ушинский, был участником наполеоновских войн и, в частности, Бородинского сражения; героически проявил себя в сражении под Малоярославцем.
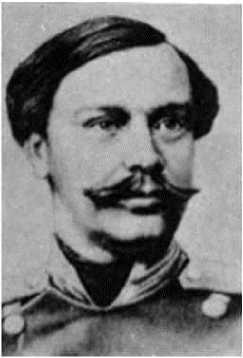
В. В. Гербель
Женитьба на сестре столь видного, заметного даже в масштабах всей страны, человека позволила Дмитрию Григорьевичу упрочить свое положение в местном обществе, в частности, в 1840 г. он был избран дворянским собранием на должность уездного судьи. Очевидцы вспоминали его как человека честного и бескорыстного. От брака Дмитрия Григорьевича и Натальи Васильевны в 1843 г. родилась дочь София, сводная сестра Константина Ушинского.
Предки и потомки К. Д. и Н. С. Ушинских
В этой части статьи представлены сведения о предках и потомках К. Д. Ушинского и его супруги Надежды Семеновны. Сведения эти, прямо скажем, разрозненные, неполные, что подчеркивает необходимость продолжения исследовательской работы по изучению биографии К. Д. Ушинского и его круга по восходящей и нисходящей линиям.
Необходимо отдать должное трудам ярославских историков педагогики, прежде всего, профессора Ярославского государственного педагогического института имени
К. Д. Ушинского Анатолия Николаевича Иванова [Иванов, 1981] директора музея К. Д. Ушинского при Ярославском государственном педагогическом университете имени К. Д. Ушинского, кандидату психологических наук Татьяне Николаевне Гавриловой и ее коллегам. Их материалы частично использованы при написании данной части статьи [Гаврилова, 2010].
Ниже представлена родословная К. Д. Ушинского, некоторых его предков, его семьи и потомков. Она дается не в форме традиционного «генеалогического древа», а описательно; на взгляд автора такая форма больше соответствует решению задач, поставленных в данной статье.
Автором выделены шесть поколений семьи. Первое поколение составляют родители Любови Степановны Ушинской (урожденной Карпинской), матери К. Д. Ушинского. Здесь же, ниже, в скобках приводятся краткие сведения о более ранних представителях рода, к которому она относилась; автору показалось более удобным не выделять их в отдельные поколения.
Поколение 2 – это родители К. Д. Ушинского и его жены. Поколение 3 составляют сам Константин Дмитриевич и его жена Надежда Семеновна. Четвертое поколение – их дети.
Далее автором дается информация о внуках и правнуках (поколения 5 и 6) великого педагога и его супруги. С целью удобства изложения судьбы представителей поколений 4, 5 и 6 раскрываются последовательно; при этом в качестве «точек отсчета»
взяты представители поколения 4, т. е. дети К. Д. и Н. С. Ушинских.
Поколение 1 (Родители Л. С. Ушинской, матери К. Д. Ушинского, урожд. Карпинской, а также некоторые более ранние предки).
Карпинский Степан Степанович (1742–?).
Карпинская (урожд. Псёл) Меланья Федоровна (до 1809–?).
[Родителями Степана Степановича были Карпинский Степан Иванович и Пан-кевич Марфа Григорьевна. Отцом Степана Ивановича был Карпинский Иван Лукьянович, а дедом – Карпинский Лукьян, польский шляхтич].
[Родителями Меланьи Фёдоровны были Псёл Степан Фёдорович (1780 – ?) и Халанская Александра Ивановна (? – после 1833). Родителями Степана Фёдоровича были Псёл Фёдор Григорьевич (1739-?) и Силевич Анна Андреевна (? -1799)].
Поколение 2 (Родители К. Д. Ушинского и его жены Н. С. Ушинской, урожд. Дорошенко).
Ушинский Дмитрий Григорьевич (1787 – не раньше 1838).
Ушинская (урожд. Карпинская) Любовь Степановна (1796– 1835).
Дорошенко Семен Степанович (1.09.1794–7.03.1848 (1843?).
Дорошенко (урожд. Матвиев-ская) Александра Георгиевна (? –?).
Поколение 3 (К. Д. Ушинский и его жена Н. С. Ушинская, урожд. Дорошенко).
Ушинский Константин Дмитриевич (19.021823–22.12.1870).
Ушинская (урожд. Дорошенко) Надежда Семеновна (22.04.1831– 1914)

Н. С. Ушинская
Поколение 4 (дети К. Д. и Н. С. Ушинских).
-
1. Сын: Ушинский Павел Константинович (12.10.1852–1870).
-
2. Дочь: Ушинская Вера Константиновна (9.06.1855–1922).
-
3. Дочь: Ушинская Надежда Константиновна (9.09.1856–1944).
-
4. Сын: Ушинский Константин Константинович (17.02.1859–1919).
-
5. Сын: Ушинский Владимир Константинович (6.02.1861–1917 или 1918).
-
6. Дочь: Ушинская Ольга Константиновна (1.11.1867–1960 или 1963).
Поколения 4, 5, 6 (дети, внуки, правнуки К. Д. и Н. С. Ушинских).
К. Д. Ушинский и его жена Н. С. Ушинская имели шесть детей, – троих сыновей и трех дочерей.
Сын – Ушинский Павел Константинович (1852 – 1870)
Погиб на охоте, потомков нет.

Павлик Ушинский
Дочь – Пото (урожденная Ушинская) Вера Константиновна (1855 – 1922).
Была замужем за подданным Италии, потомственным почетным гражданином Киева Адольфом-Леоном Львовичем Пото (1846–?). На свои средства она открыла в Киеве мужское городское училище им. К. Д. Ушинского. Семья жила в Киеве. У них была дочь Наталья (? – 1950), которая получила в Бельгии специальность скульптора в 1945 г., там и скончалась. Замуж она не выходила, детей у неё не было. Эта линия также пресеклась.
Дочь – Ушинская Надежда Константиновна (1856 – 1944).
В с. Богданка, где находился дом, принадлежавший Ушинским, на средства, вырученные от продажи сочинений своего отца, открыла начальную школу. После Октябрьской революции 1917 г. Н. К. Крупская помогла ей уехать в Швейцарию. Другими сведениями о Н. К. Ушинской мы не располагаем.

Житель с. Богданка В. Г. Ше-лудько, ученик дочери К. Д. Ушинского Надежды, открывшей на средства отца школу в этом селе
Сын – Ушинский Владимир Константинович (1861 – 1917 или 1918).
Родился в год освобождения крестьян от крепостного права, и в честь этого события в семье его называли Воля. Считается, что он умер, предположительно, в 1917 или 1918 гг. Потомков, скорее всего, нет.

Семья Ушинских: (слева направо) Павел, Владимир (на руках Константина Дмитриевича), Костя, Вера, Надежда Семеновна, Надежда
Династия К. Д. и Н. С. Ушинских в настоящее время продолжается по двум линиям, – их сына Константина и дочери Ольги .
Сын – Ушинский Константин Константинович (1859 – 1919).
Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета, действительный статский советник. Работал в секретариате императорской канцелярии. В 1891 г. женился на Марии Николаевне Виноградской (1859–11.05.1903). Ее брат Сергей – биолог, работал в институте Луи Пастера в Париже, член Российской, Французской и Британской академий наук.
М. Н. Ушинская похоронена в селе Рясники, Бугринской волости, Острожского повета, Волын- ской губернии; ныне Ровенского района, Ровенской области, Республики Украина. В этом селе Константин Константинович и Мария Николаевна Ушинские имели имение, в котором семья проводила летние месяцы. Тогда это была территории Царства Польского, входившего в состав Российской империи до конца 1917 г.
У них было четверо детей: Дмитрий (1893–1941?1943?1944?), Николай, Максим и Марианна (1901– 1990). Во время революционных событий 1917 г. Максим погиб.
К. К. Ушинский вместе с дочерью Марианной и дочерью от второй жены пытался эмигрировать в Румынию, но в дороге умер. Дочери похоронили его где-то на юге России.
Дмитрий Константинович и Николай Константинович служили в белой армии, в 1922 г. они вернулись в Рясники и продали имение. Оба эмигрировали в Бельгию. Дмитрий Константинович сменил много мест работы. Его жену звали Мария Стри-жевская (1903–1982). У них было двое детей, – Наталья и Константин. Наталья вышла замуж за Георгия Новосельцева. У них была дочь Анна, которая вышла замуж за Виктора Лаптева; известно, что они жили в Монреале.
У Константина, профессора русского языка в Техасском университете, и его жены Елены Орловской, три дочери, которые, кстати, уже не говорят по-русски: Софья – профессор философии университета Конкордия (Монреаль), Александра – также проживает в Монреале, а Анастасия (1973 г.р.) – живет в США, во Флориде. У Софьи – муж Джордж За-тмари, два сына и дочь. У Александры муж Грант Джеймс, дочь Кэмерон и сын Эйден. У Анастасии первый муж Джеймс Бэчемп и дочь Кэмерон; второй муж Джозеф Коуэн, сын Броден и дочь Габриэла.
Это всё, что известно о потомках Ушинских по линии Дмитрия Константиновича. Вернемся к другому внуку К. Д. Ушинского, Николаю Константиновичу. Он, как уже указывалось вместе с братом эмигрировал в Бельгию, и окончил там курсы колониального администрирования. Затем он работал управляющим в Бельгийском Конго. После второй мировой войны вернулся в Брюссель и организовал фирму, занимавшуюся химчисткой одежды. Умер в Монреале в конце 1950-х
(начале 1960-х?) годов. Его жену звали Анна Стрижевская. Их сын Алексей был женат на бельгийке, которую звали Вилма Забо; у них было два сына.
Теперь вернемся к судьбе сестры Николая и Дмитрия Константиновичей, Марианны Константиновны Ушинской, внучки Константина Дмитриевича и Надежды Семеновны Ушинских. После неудавшейся попытки эмигрировать в Румынию Марианна вернулась в «семейное гнездо», в Рясники, и вышла замуж за врача Владимира Константиновича Поспеловского (? –1964).
В молодости он получил образование в Воронеже. Служил врачом. Под конец гражданской войны, с отступающей «белой» армией перебрался в Польшу, в город Ровно. В 35 км от этого города и находятся Ряс-ники, в которых он имел частную медицинскую практику.
В 1920 г. Марианна Константиновна и Владимир Константинович Поспеловские купили здесь часть имения с фруктовым садом. Здесь они жили, по словам их дочери, до 1943 г., после чего уехали на Запад. (По данным украинской Википедии, – они уехали из Рясников в 1939 г.).
В их семье было трое детей; все они родились в Рясниках: Марианна (назовем ее для удобства младшая Марианна ) (род. 28.06.1929), Ольга (род. 1932), Дмитрий (13.01.1935– 12.09.2014, Маунт Хоуп, Канада).
Марианна Владимировна По-спеловская (младшая Марианна) в Монреале в 1948 г. окончила Sir Jeorge College (Колледж сэра Джорджа) и работала секретарем по юридическим вопросам до замужества с уроженцем Чехословакии, астрофизиком Игорем Юркевичем (? –1996). В 1952 г. они перебрались на жительство в США, в г. Аннаполис, штат Мериленд. Здесь Марианна занималась домашним хозяйством.
В их семье было трое детей: дочь Гайана и два сына – Никита и Марк. Гайана (1953 г.р.) живет в Нью-Йорке; она профессор, специалист в области испанской литературы, работает в Барух-колледже. Никита – строитель, женат на русской девушке Инне, которая по профессии врач. Марк – IT-специалист, женат на польке Богуславе; они живут в Варшаве.
Младшая сестра «младшей Марианны» Ольга Владимировна По-спеловская вышла замуж за Степана (Стивена) Митянина; в их семье было двое детей, – Екатерина (ее мужей звали Даг Эванс и Стив Мониц) и Николай (у него жена Каролина и сын). Все они жили в г. Ванкувер, Канада.
Брат Марианны Владимировны и Ольги Владимировны Дмитрий Владимирович Поспеловский, несомненно, самый известный из потомков К. Д. Ушинского.
На Западе на протяжении многих лет он считался крупным советологом, публицистом и экономистом. Поспеловский сотрудничал в таких печатных изданиях, как, например, «Посев». Был членом Народно-Трудового Союза. Руководил исследовательской секцией «Радио Свобода», выступал на БиБиСи. Все эти средства массовой информации вели и продолжают вести по настоящее время ожесточенную борьбу против нашей страны. В связи с этим его имя было у нас фактически под запретом, либо упоминалось исключительно в негативном контексте. Скажем прямо, именно против таких идеологических противников как Дмитрий Поспеловский в СССР и выстраивалась целая система контрпропаганды, существовала практика глушения радиоканалов, способных негативно повлиять на настроения населения.
После 2-й мировой войны Д. В. Поспеловский эмигрировал в Канаду. В 1972–1997 гг. Д. В. Поспе-ловский – профессор университета в г. Лондон, штат Западное Онтарио, автор большого количества книг и публикаций по истории России и религии. Он был женат на уроженке Сербии по имени Мирьяна (1935 г.р.). Их трое детей живут в Торонто: дочь Дарья Дума (ее мужа зовут Марк; в семье растет сын) и два сына – экономист Андрей (его жену зовут Каролина, есть дочь) и университетский специалист в области коррекционной педагогики Богдан (его жену зовут Дженнифер, есть сын).
В г. Роудон (провинция Квебек, Канада), недалеко от Монреаля, есть русское кладбище, где похоронены некоторые представители «канадской» ветви рода Ушинских, о которых шла речь выше: Дмитрий Константинович, и его жена Мария, их сын Константин (отец Софьи и Александры), его дочь Наталья (мать Анны), Николай Константинович, его жена Анна и Марианна Константиновна Поспеловская.
Наконец, мы переходим к рассказу о потомках К. Д. Ушинского по линии его младшей дочери Ольги.
Дочь – Ушинская Ольга Константиновна (01.11.1867 – 1960 или 1963).
Ольга Константиновна была младшим ребенком в семье Ушинских. Своего отца и старшего брата она пережила на 90 лет! Возможно, даже на 93 года, поскольку в некоторых источниках годом смерти указан 1963 г.
Ольга Константиновна была замужем за Михаилом Акинфиевичем Суковкиным (7.11.1857, Санкт-Петербург – 11.11.1938, Ментона, Франция), действительным статским советником, камергером, председателем Киевской губернской земской управы в 1907–1917 гг.
Их первая дочь Елена умерла в возрасте четырех лет. Затем родились еще три сына и дочь: Михаил, Алексей, Константин (домашние называли его Коко) и Марина. Лето семья проводила в загородном имении Кавалья в пригороде города Канева (ныне территория Черкасской области, Республики Украина).
В 1917 г. М. А. Суковкина назначили послом Временного правительства в Константинополь. Ольга Константиновна последовала вслед за мужем.
Она находилась в течение года в разлуке с детьми, так как два старших сына (Михаил и Алексей) учились в Англии, а Константин и Марина оставались под присмотром няни в Петрограде. Чтобы выжить в период начавшейся гражданской войны, няне пришлось продавать иконы, посуду и пр. Далее Ольге Константиновне удалось забрать детей и перевезти их в Константинополь, где они жили в бедности.
В 1921 г., они перебрались во Францию. Здесь у Марины проявился талант художницы: она зарабатывала писанием икон, рисовала портреты, занималась миниатюрной живописью. Братья снимались в эпизодических ролях в кино. Постепенно жизнь наладилась. Константин с детства страдал туберкулезом, и семья переехала на Лазурный берег.
Михаил Акинфиевич попросил французские власти отдать пустовавшее помещение огромного санатория для больных туберкулезом под Русский дом для приюта беженцев, которые стекались в страну из «красной» России, на условиях его возвращения после прекращения потока эмигрантов. Он стал директором первого Русского дома во Франции в 1923 г. Впоследствии стали открываться подобные благотворительные заведения в других городах Франции.
М. А. Суковкин состоял членом объединения бывших воспитанников Императорского Александровского лицея и секретарем русского православного Братства Св. Анастасии Узорешительницы в городе Ментоне.
О судьбах сыновей Михаила Акинфиевича и Ольги Константиновны нам известно из воспоминаний их внучки Ирины Хале, дочери Марины Михайловны. Ирина Хале вспоминала братьев своей матери.
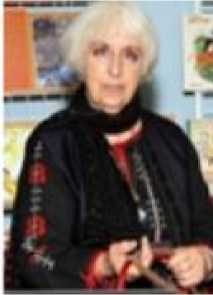
Ирина Хале
Она запомнила дядю Михаила Михайловича высоким, симпатичным молодым человеком. Он много лет прожил в Ницце, был помощником и другом графини Кайзерлинг, младшей дочери последнего российского премьер-министра П. А. Столыпина.
Дядя Алексей Михайлович, по ее воспоминаниям, был смуглым, и внешне напоминал испанца. Он увлекался буддизмом, в 1950-е гг. уехал в Индию, затем на остров Цейлон, где и закончил свою жизнь.
Третий дядя, Константин Михайлович (Коко) (1905–1990, Лион) всю жизнь провел во Франции. Дядя Константин запомнился Ирине как обходительный и утонченный, с едким и дерзким умом. Он напоминал Ирине Хале персонаж из романа Ф. М. Достоевского «Бесы», который чувствовал вкус жизни только тогда, когда за ним гналась полиция. Из-за пагубной страсти к азартным играм он превратился из состоятельного человека в нищего.
Константин много лет прожил инкогнито на деньги французской графини, которая его обожала. Его жену звали Минон Шарлот Дюлонг де Розне (1920–2009). В 1953 г. у них родился сын Пьер. Его жену зовут
Вероник (1963 г.р.), а их сына – Арно (1998 г.р.).
Наконец, свою мать Марину Михайловну (1902–1951) Ирина Хале считала талантливой, очаровательной, в некоторых вопросах практичной и немного загадочной. Мужем Марины был ирландец Патрик Валентин Бушо.
По мнению Ирины Хале, ее отец Патрик Бушо противоположностью своей жены, – веселый, добрый, сентиментальный и совершенно непрактичный. По-разному они, – Марина и Патрик, – относились и к тому, что были вынуждены жить вдалеке от Родины. Марина Михайловна философски относилась к потере своего дома и страны, а Патрик переживал, что из-за экономических проблем в Ирландии ему пришлось покинуть остров Керри, где он жил, «как маленький принц». Затем семья Патрика и Марины перебралась в Англию, где в 1932 г. и родилась их дочь Ирина, будущая Ирина Хале.
Поначалу они жили невдалеке от города Солсбери. Марина хорошо рисовала миниатюрные портреты своих друзей, таких как княгиня Юсупова, гордилась своими работами, и даже выставляла их на выставках, например, в Королевской академии искусств. Потом семья переехала в г. Бристоль, где их и застала вторая мировая война.
Умение рисовать передалось от Марины ее дочери, и в четырнадцать лет Ирина зарабатывала на жизнь, рисуя портреты. Ей очень хотелось учиться в художественной школе, но мать решила увезти ее во Францию, подальше, как она считала, от «плохого влияния» отца, который злоупотреблял спиртным.
Бабушка Ольга Константиновна, младшая дочь великого педагога, жила в г. Ментон, а вот ее муж, М. А. Суковкин, уже умер. Семь лет Ирина с матерью, Мариной Михайловной, прожили во Франции в крайней бедности. Из-за боязни умереть от голода они вернулись в Англию. Патрик встретил их с любовью. Последние годы Марина Михайловна страдала расстройством нервной системы. Однажды она разом выпила все имевшиеся у нее лекарства и умерла.
Ирина стала дипломированным специалистом в Академии искусств в г. Коршем, Англия. В 1954 году она получила еще один диплом преподавателя изобразительных искусств в университете г. Бристоля и в течение трех лет преподавала живопись в школе Скелфилд в Йоркшире и в школе Бедминтон в Бристоле. Отец умер в возрасте 63-х лет, оставив дом своей второй жене. Естественно, у Ирины не сложились с ней отношения, и она уехала в страну искусств, – Италию.
В Италии она вышла замуж за выпускника Кембриджа, талантливого скульптора Джона Хале, которого встретила в Кингс-колледже. Они венчались в русской церкви в Риме и были вместе в течение двенадцати лет. Как вспоминала Ирина, они много занимались самообразованием в Италии (г. Каррара), и в Австрии, в Академии Зоммер, где их наставниками были Джакомо Мандзу и знаменитый художник Оскар Ко- кошка. Ирине Хале была даже присуждена премия г. Зальцбурга. В 1967 г. в Лондоне, в галерее Крейн Калман открылась персональная выставка ее работ.
После развода с Джоном Хале Ирина в 1970 году вышла замуж во второй раз – за римского скульптора Спартако Дзианна (1924–1991), стала матерью для его дочери от первого брака Сильвии, а после смерти Сильвии, посвятила себя заботам о ее дочери. Помимо занятия живописью, Ирина проявила себя как детская писательница: в 1980–2007 гг. ею было издано 16 книг. Она занималась организацией лабораторий детского творчества и постановкой спектаклей в театре теней при содействии труппы «Орто делла Арти», основанной в 1997 г. В 1992–2004 гг. при ее участии поставлено 16 спектаклей.
Ирина принимала участие в организации и проведении курсов живописи, английского языка через искусство, занятий в детских садах и т. п. В 1994 г. Ирина Хале впервые приехала в Россию. Она побывала на открытии кукольного фестиваля в Санкт-Петербурге, посетила педагогический университет им. А. И. Герцена.
Все годы, пока была жива бабушка Ольга, она общалась с ней. Ольга Константиновна Ушинская запомнилась Ирине как образованная женщина, всегда подтянутая и доброжелательная. До конца своих дней она искусно занималась рукоделием, – расписывала шелк, вышивала бисером и делала шляпки из «всякой всячины». Особенно младшая дочь великого русского педагога любила ис- кусство и в молодости часто посещала Большой театр, была знакома с А. П. Чеховым и Ф. И. Шаляпиным.
Такова судьба потомков К. Д. Ушинского.
Заключение. В результате исследовательской работы удалось решить поставленные при написании статьи задачи. Однако данная проблематика еще далеко не исчерпана. Необходимо проведение дальнейшей исследовательской работы с целью создания возможно более полной биографии К. Д. Ушинского.
Список литературы О некоторых не до конца выясненных страницах биографии К. Д. Ушинского (к 200-летию со дня рождения великого русского педагога)
- Гаврилова, Т. Н. Судьба некоторых потомков великого русского педагога К. Д. Ушинского / Т. Н. Гаврилова // Идеи К.Д. Ушинского и современная школа: материалы научно-практической заочной интернет-конференции. – Ярославль. – Изд-во ЯГПУ. – 2010. – С.43–50. – Текст: непосредственный.
- Документы из детского и юношеского возраста // Ушинский К. Д. Собрание сочинений: в ХI т. – Т. ХI. / гл. ред В. Я. Струминский. – Изд-во АПН РСФСР. – 1952. – С. 238–274. – Текст: непосредственный.
- Иванов, А. Н. К. Д. Ушинский в воспоминаниях дочерей / А. Н. Иванов // Новое об Ушинском: Исследования и материалы о жизни, деятельности и педагогическом наследстве: межвузовский сборник научных трудов. – Вып. № 193. – Ярославль. – 1981. – С. 11–50. – Текст: непосредственный.
- Иванов, А. Н. К. Д. Ушинский в Ярославле / А. Н. Иванов. – Ярославль. – 1963. – 492 с. – Текст: непосредственный.
- Иванов, А. Н. Ушинский. Гимназист, Студент, Профессор / А. Н. Иванов. – Ярославль. – 1973. – 270 с. – Текст: непосредственный.
- К. Д. Ушинский и русская школа. Беседы о великом педагоге / под ред. Е. П. Белозерцева. – Москва. – Роман-газета. – 1994. – 192 с. – Текст: непосредственный.
- Песковский, М. Л. Константин Ушинский. Его жизнь и педагогическая деятельность / М. Л. Песковский // Библиографическая библиотека Ф. Ф. Павленкова. – 1893. – Санкт-Петербург: тип. Ю. Н. Эрлих. – 1893. – 80 с. – Текст: непосредственный.
- Полосин, И. И. К. Д. Ушинский, – его детство, отрочество и юность / И. И. Полосин // Ученые записки МГПИ им. В. И. Ленина. – Т. XXXIII. – Москва. – 1946. – С. 106–127. – Текст: непосредственный.
- Помелов, В. Б. Видный российский педагог второй половины XIX в. Л. Н. Модзалевский / В. Б. Помелов // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. – 2022. – № 2(54). – С. 268–275. – Текст: непосредственный.
- Помелов, В. Б. Д. Д. Семёнов – друг и последователь К. Д. Ушинского / В. Б. Помелов // Педагогика. Вопросы теории и практики. – 2018. – № 3. – С. 51–56. – Текст: непосредственный.
- Помелов, В. Б. Директор Новгород-Северской гимназии Илья Федорович Тимковский (К 250-летию со дня рождения) / В. Б. Помелов // Педагогика. – 2022. – № 9(86). – С. 109–118. – Текст: непосредственный.
- Помелов, В. Б. Дорогое и любимое имя – К. Д. Ушинский / В. Б. Помелов // Начальная школа. – 2014. – № 3. – С. 4–10. – Текст: непосредственный.
- Помелов, В. Б. П. Г. Редкин – основоположник русской теоретической педагогики / В. Б. Помелов // Вестник Вятского государственного университета. – 2020. – № 3. – С. 170–179. – Текст: непосредственный.
- Помелов, В. Б. М. Л. Песковский – самоотверженный педагог и талантливый журналист / В. Б. Помелов // Вопросы педагогики. – 2018. – № 2. – С. 68–74. – Текст: непосредственный.
- Помелов, В. Б. Первая женщина-методист начального образования / В. Б. Помелов // Начальная школа. – 2016. – № 6. – С. 71–76. – Текст: непосредственный.
- Рехневский, Ю. С. К. Д. Ушинский (некролог) / Ю. С. Рехневский // Вестник Европы. – 1871. – № 2. – С. 6–17. – Текст: непосредственный.
- Струминский, В. Я. Очерки жизни и педагогической деятельности К. Д. Ушинского / В. Я. Струминский. – Москва. – Учпедгиз. 1960. – 328 с. – Текст: непосредственный.
- Ушинский, К. Д. Воспоминания об обучении в Новгород-Северской гимназии / К. Д. Ушинский // Педагогические сочинения: в 6 т. – Т. 1. / Гл. ред. М. И. Кондаков. – Москва. – Педагогика. – 1988. – С. 309–316. – Текст: непосредственный.
- Фролков, А. Ф. К. Д. Ушинский. Краткий биографический очерк / А. Ф. Фролков. – Москва. – Тип. М. М. Стасюлевича. – 1881. – 73 с. – Текст: непосредственный.
- Чалый, М. К. Воспоминания / М. К. Чалый // Киевская старина. – 1889. – №VIII. – С. 290–353. – Текст: непосредственный.
- Чалый, М. К. Материалы для биографии Ушинского / М. К. Чалый // Народная школа. – 1874. – № 4. – С. 40–47. – Текст: непосредственный.