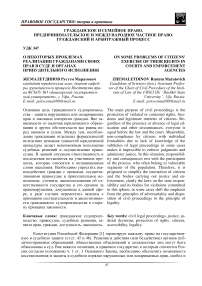О некоторых проблемах реализации гражданами своих прав в суде и органах принудительного исполнения
Автор: Жемалетдинов Рустэм Маратович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Статья в выпуске: 3 (53), 2018 года.
Бесплатный доступ
Основная цель гражданского судопроизводства - защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов граждан. Вне зависимости от наличия юридического образования и других обстоятельств все равны перед законом и судом. Между тем, несоблюдение гражданами отдельных формальностей вследствие незнания тонкостей юридической процедуры делает невозможным исполнение судебных решений и осуществление правосудия. В данной ситуации ответственность и последствия возлагаются на участников процесса, которые относятся к незащищенным слоям населения. Необходимо упростить взаимодействие граждан с органами, осуществляющими правосудие и принудительное исполнение, уточнить законоположения об ответственности государства и его органов за правонарушения, допущенные в данной сфере, в ряде случаев переместить акценты с принципов состязательности и диспозитивности гражданского судопроизводства в сторону принципа законности.
Гражданское судопроизводство, правосудие, судебные решения, защита прав, граждан, доступность, законность
Короткий адрес: https://sciup.org/142232844
IDR: 142232844 | УДК: 347
Текст научной статьи О некоторых проблемах реализации гражданами своих прав в суде и органах принудительного исполнения
Конституция Российской Федерации [1] гарантирует каждому право на государственную и судебную защиту (ст.ст. 45 и 46). Решения и действия (или бездействие) органов публично-правовых образований, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Вне всякого сомнения, в правовом государстве, к которым относится Россия согласно положению ч. 1 ст. 1 Основного Закона, необходимо обеспечить возможность восстановления и защиты в судебном порядке нарушенных или оспариваемых прав, свобод и

законных интересов, установленных в материальном праве. При этом как неоднократно справедливо отмечается в трудах ученых и констатируется в судебных актах, в том числе Европейского Суда по правам человека, говорить о свершившемся правосудии можно только в том случае, когда вынесенное по делу законное и обоснованное решение в точности исполняется в установленные законом сроки. * Исходя из изложенного, недостаточно закрепить в законодательстве декларации прав граждан и организаций, требуется обеспечить их беспрепятственную поэтапную реализацию, в том числе в правоприменительном процессе различных юрисдикционных органов. И даже если с определением и установлением обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения гражданского дела, с правильной юридической квалификацией отношений и вынесением законного и обоснованного решения у суда проблем не возникает, то на завершающей стадии исполнения судебного постановления неискушенный в вопросах юриспруденции взыскатель нередко оказывается в тупике. Как показывает практика, происходит это по целому ряду причин, в частности, вследствие наличия пробелов в законодательстве о гражданском судопроизводстве, размытия обязанностей и ответственности суда и остальных его участников.
Например, еще до вынесения судебного решения или вступления его в законную силу истец просит принять меры по обеспечению иска (ст. 140 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации [2] (далее – ГПК РФ)) или обеспечению исполнения решения суда (ст. 213 ГПК РФ). В гражданском процессе суд рассматривает такое заявление немедленно в день обращения и выносит определение о наложении ареста на имущество, принадлежащее ответчику. Согласно статье 142 ГПК РФ, этот судебный акт приводится в исполнение немедленно в порядке, установленном для исполнения судебных постановлений. На основании определения истцу выдается судьей или судом исполнительный лист, а ответчику направляется его копия. При этом о принятых мерах по обеспечению иска судья незамедлительно сообщает в соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления, регистрирующие имущество или права на него, их ограничения (обременения), переход и прекращение (ч. 4 ст. 140 ГПК РФ). Но при рассмотрении конкретного гражданского дела о взыскании суммы займа и процентов в одном из районных судов г. Уфы Республики Башкортостан произошло следующее. Вынесенное судом определение об обеспечении иска (наложении ареста на все имущество ответчика) истец и его представитель получили, но за исполнительным листом никто не обратился. Ответчик суд проиграл. Сообщения из суда о принятых обеспечительных мерах в Управление Росреестра по Республике Башкортостан не последовало. В итоге должник успел совершить договор дарения квартиры в пользу своего несовершеннолетнего ребенка. В судебном заседании по гражданскому делу по последовавшему иску о признании сделки дарения недействительной он заявил, что не знал и не мог знать о наложении ареста, поскольку копия определения из суда к нему не поступала. Информация о вынесенном определении якобы стала ему известна только после государственной регистрации сделки, из содержания нового иска. Истец в судебном заседании, ссылаясь на определение суда о принятии обеспечительных мер, утверждал, что на спорную квартиру наложен арест, поэтому сделка была совершена с нарушением закона. Он не знал о том, что необходимо получить исполнительный лист, в максимально короткие сроки обратиться с ним к приставам-исполнителям, и также возможно самостоятельно обратиться в регистрирующий орган для внесения сведений в реестр. В суде ему не разъяснили процессуальные последствия дальнейшего бездействия, и, получив определение о наложении ареста, он посчитал дело сделанным. Его поверенный, если рассчитывать на квалифицированную юридическую помощь с его стороны, обязан был указать доверителю на этот нюанс.
Согласно п. 95 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [3], по смыслу п. 2 ст. 174.1 ГК РФ в случае если должник распорядится арестованным имуществом, права кредитора могут быть реализованы при условии, если доказано что приобретатель имущества знал или должен был знать о запрете на распоряжение имуществом должника, в том числе не принял все разумные меры для выяснения правомочий должника на отчуждение имущества. С момента внесения в соответствующий государственный реестр прав сведений об аресте имущества признается, что приобретатель должен был знать о наложенном запрете (ст. 8.1 ГК РФ). При этом, осведомленность должника об аресте отчужденного имущества не является обстоятельством, которое имеет значение для решения вопроса об истребовании имущества у приобретателя. В итоге фактически уже из толкования разъяснений Пленума следует вывод, что арест является состоявшимся и в этой ситуации дает суду основания для принятия решения об удовлетворении иска кредитора, например, об истребовании имущества, о признании сделки недействительной только в случае внесения сведений об обеспечительных мерах в реестр. В итоге суд отказал признавать сделку недействительной, ссылаясь, в том числе, на то, что арест квартиры не был произведен. На первый взгляд, все законно и справедливо. Суд не нашел оснований для удовлетворения исковых требований и вынес законное и обоснованное решение. Конечно, как известно, незнание гражданами закона не освобождает их от ответственности, и, как выясняется, сказывается на возможности реализации ими своих прав. Однако в результате гражданин – взыскатель, не смог восстановить свои нарушенные права. Поэтому стоит проанализировать причины этого, возникшие ранее при рассмотрении заявления о принятии обеспечительных мер, вынесении определения. Ни суд, ни истец действия, предусмотренные законом, не выполнили. В пользу истца ранее уже было вынесено судебное решение от имени государства о взыскании денежных средств, и он хотел удовлетворить свои материальные притязания к ответчику путем обращения взыскания на принадлежащее ему недвижимое имущество, что в итоге оказалось невозможным, поскольку в результате неналожения ареста имущество выбыло из обладания должника в результате сделки по его отчуждению. И подобные случаи не редкость! Необходимо обратить внимание на то, что ГПК РФ ответственности за ущерб или убытки, причиненные в данном случае бездействием суда, не устанавливает. В ст. 140 ГПК РФ нет соответствующей части. Остается ориентироваться на общие положения ГК РФ, и бланкетную норму ст. 32 Федерального закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В итоге законопослушный гражданин, налогоплательщик, в пользу которого было вынесено решение суда о взыскании с ответчика крупного долга, не смог реализовать свои права и решение осталось исполненным лишь в части. Возникает вопрос, кто понесет ответственность в результате? Должен ли гражданин быть специалистом во всех процессуальных вопросах и по любому поводу обращаться к квалифицированной и зачастую отнюдь не бесплатной помощи представителя (адвоката)? Обязан ли гражданин при попытке взыскать с государства неполученного от ответчика знать все тонкости гражданского законодательства?
На наш взгляд, на пути реализации прав граждан (лиц, участвующих в деле, взыскателей) встает избыточное количество условий. Не выполнив одно из них, гражданин не может восстановить справедливость и законность! При этом пробелы процессуального законодательства и его несогласованность не позволяют без долгих судебных разбирательств привлечь к ответственности государство, поскольку судебный орган не сообщил о мерах по обеспечению иска в Росреестр. Как правильно утверждает У.М. Мурзабулатов, должник оказывается в более выгодных условиях, нежели взыскатель [4], поскольку, пока взыскатель предпринимает активные действия, тратит силы, время, денежные средства, должник спокойно живет, надежно защищенный законом. Считаем справедливым указание автора на отсутствие в законодательстве об исполнительном производстве принципов, направленных непосредственно на защиту взыскателя и установление приоритета его интересов [5]. В числе последних изменений в Инструкцию по судебному делопроизводству в районном суде [6], внесенных Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 09 января 2018 г. № 2, присутствует норма, согласно которой теперь копия определения суда о наложении ареста на недвижимое имущество или установлении запрета на совершение определенных действий с недвижимым имуществом, о снятии ареста или запрета, заверенная надлежащим образом, направляется уполномоченным работником аппарата суда в срок не более чем три рабочих дня в орган регистрации прав (третий абзац пункта 9.3.1 Инструкции). Между тем, назрела необходимость изменить и законодательство, установив, во-первых, абсолютно определенную норму об ответственности судебного
органа и государства за нарушение данного правила, во-вторых, обязав должника, который обычно знает о своем долге из решения суда, доказывать, что он намеревался и сейчас способен полностью рассчитаться с кредитором денежными средствами или иным имуществом, кроме того, на которое был наложен арест (в случае его реализации). Приобретатель имущества же может считаться добросовестным только убедившись в том, что в государственном реестре прав отсутствуют не только сведения о наложении ареста, но и информация о том, что в настоящее время имущество не является объектом спора. В-третьих, следует предусмотреть в процессуальном законе положение, согласно которому обязанности гражданина, желающего наложить арест и т.д., в данной ситуации считаются выполненными полностью при вынесении судом определения об обеспечении иска. Далее распространяется сфера ответственности суда, регистрирующих органов и судебных приставов, если гражданин прямо в письменной форме не изъявил желание получить на руки исполнительный лист и самостоятельно обратиться в службу судебных приставов.
При условии осуществления этих изменений и дополнений в законы, как мы думаем, возможно корректное соотношение реализации принципов гражданского процессуального права и исполнительного производства. В настоящее время толкование законодателем и высшими судебными органами принципов диспозитивности и состязательности происходит в ущерб действия принципа законности, против взыскателей, которые обладают правами, установленными законом и подтвержденными судом. Переложение ответственности за собственные действия (бездействие) целиком на лиц, участвующих в деле или в исполнительном производстве, в условиях правового и социального государства считаем неоправданным и приводящим к фактической безнаказанности должностных лиц и органов государственной власти, и в то же время, к лишению граждан возможности реализовать свои процессуальные права, восстановить и защитить нарушенные или оспариваемые субъективные материальные права. В итоге не достигаются цели гражданского судопроизводства (ст. 2 ГПК РФ), а судебная защита, гарантируемая Конституцией РФ (ст. 46), оказывается фикцией.
Примечание
* Судебное решение от 19 марта 1997 г. по делу «Хорнсби против Греции» и другие.
Список литературы О некоторых проблемах реализации гражданами своих прав в суде и органах принудительного исполнения
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) / Официальный интернет-портал правовой информации http:/www.pravo.gov.ru.
- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ (ред. от 03.04.2018) / Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» / Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8.
- Мурзабулатов У.М. Проблема обеспечения законных прав и интересов взыскателя в современном исполнительном производстве / Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Уфимский юридический институт МВД РФ. 2017. № 1-1. С. 114-117.
- EDN: XWOKRN
- Мурзабулатов У.М. Концептуальные пробелы в законодательстве об исполнительном производстве / Правовое государство: теория и практика. 2014. № 1 (35). С. 44-47.
- EDN: RXXCKJ
- Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде. Утверждена Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 года № 36 (ред. от 09.01.2018) /СПС "Консультант Плюс".