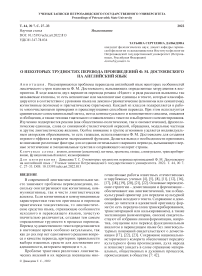О некоторых трудностях перевода произведений Ф. М. Достоевского на английский язык
Автор: Давыдова Т.С.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 7 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются проблемы перевода на английский язык некоторых особенностей лексического строя идиолекта Ф. М. Достоевского, вызывающих определенные затруднения в восприятии. В ходе анализа двух вариантов перевода романа «Идиот» и ряда рассказов выявлены так называемые атопоны, то есть непонятные или малопонятные единицы в тексте, которые классифицируются в соответствии с уровнями языка на лексико-грамматические (агнонимы или семантемы), когнитивные (когнемы) и прагматические (прагмемы). Каждый из классов подкрепляется в работе многочисленными примерами и превалирующими способами перевода. При этом используются сравнительно-сопоставительный метод, метод контекстуального и компонентного анализа, описания и обобщения, а также техника тщательного ознакомления с текстом и выборочного комментирования. Изучению подвергаются реалии (как общественно-политические, так и ономастические), фразеологические единицы, слова со сниженной стилистической окраской, обращения, модальные частицы и другие лингвистические явления. Особое внимание в группе агнонимов уделяется индивидуальным авторским образованиям, то есть гапаксам, использованным Ф. М. Достоевским для создания игрового эффекта и передачи экспрессивной функции. Делается вывод о необходимости принимать во внимание различные факторы для создания оптимального варианта перевода, вызывающего верные эстетические и эмоциональные чувства и сохраняющего колорит страны.
Атопон, агноним (семантема), когнема, прагмема, гапакс, слова-реалии, транскрибирование, функциональный аналог, калькирование
Короткий адрес: https://sciup.org/147240098
IDR: 147240098 | УДК: 81.347.78.034 | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.813
Текст научной статьи О некоторых трудностях перевода произведений Ф. М. Достоевского на английский язык
В современной лингвистике значительное место занимают проблемы переводоведения, поскольку они затрагивают как когнитивные, коммуникативные, так и чисто лингвистические аспекты. Если когнитивные и коммуникативные характеристики текстов оригинала и перевода практически тождественны, то лингвистические средства языка, отражающие особенности исходного и переводящего языков, зачастую значительно различаются, создавая тем самым определенные трудности в процессе перевода. Перевод художественного текста представляется в настоящее время особенно актуальным, так как до сих пор нет однозначного решения вопроса о качестве перевода, критериях правильности выбора языковых средств для достижения его адекватности, авторском переводе и т. д.
Проблеме трактовки различных лингвистических явлений и их перевода посвящены мно-
гочисленные работы известных отечественных и зарубежных ученых [4], [5], [8], [11], [12], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22]. Основные переводческие стратегии – доместикации и форенизации – обеспечивают как лингвистический, так и общекультурный ориентир для передачи культурной специфики исходного текста. Сохранение и донесение до читателя в адекватной оригиналу форме (то есть передача слова транскрибированием, транслитерацией или калькированием), а также экспликация (комментарии, сноски) свидетельствуют об избрании линии форенизации, напротив, опущение или перевод функциональным аналогом в переводящем языке без лингвокультурных пояснений свидетельствуют о доместикации [17], [22], [23]. Сохранение национальноисторического колорита обеспечивает передачу культурного фона произведения, духа народа и позволяет увидеть в слове отражение материальных, общественных и духовных процессов, происходящих в обществе [7: 42].
По мнению некоторых исследователей, сложность художественного перевода заключается не столько в передаче смысла, сколько в передаче «уникального авторского стиля произведения, его эстетики, богатства языковых средств, а также атмосферы, юмора, характера и настроения, заложенных в тексте», требующих присутствия творческой интуиции переводчика [3: 104]. Художественный перевод предполагает не дословность, а скорее творчество переводчика, который должен иметь определенные качества писателя, уметь проникнуть в суть текста, передать авторский замысел, точно отобразить смысл текста и сохранить его гармоничность [1: 153].
Определенные проблемы будет испытывать переводчик произведений Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна и других классиков XIX века, но трудности эти будут несопоставимы с теми, которые возникают у переводчика Ф. М. Достоевского –
«писателя-экспериментатора, игрока, автора во многих отношениях креативного, часто сознательно нарушающего литературную норму и этим создающего энтропию, хаос, отражающий внутренний мир и внутреннюю речь человека» [14: 150].
Чтение, а тем более перевод произведений Достоевского затруднены и философско-психологическим содержанием, и достаточно сложной композицией, и отдаленностью исторической эпохи, без знания которой часто невозможно понять замысел автора, и сложностью языка писателя – как на уровне синтаксиса, так и на уровне лексики.
Ф. М. Достоевский по праву считается самым читаемым на Западе русским писателем, а его имя давно стало неотъемлемой частью общемировой культуры. Его творчество исследуется с разных сторон, обсуждается на многочисленных конференциях и международных симпозиумах. Существуют фонды, научные центры, школы и общества по сохранению и изучению наследия Ф. М. Достоевского: Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Омский региональный центр изучения творчества Ф. М. Достоевского, Петрозаводский государственный университет, Томский государственный университет, Международное общество Достоевского, объединяющее ученых и исследователей в области жизни и творчества писателя, во главе с Д. Кэрол Аполлонио, Общество Достоевского в Германии и др.
За полтора века сложилась богатая традиция переводов Достоевского на иностранные языки, в частности на английский. Существует не ме- нее трех-четырех переводов каждого крупного романа. Это работы английских переводчиков: Констанс Гарнетт, Евы Мартин, Дэвида Мэ-гаршэка, Дэвида Мак Даффа, Роналда Уилкса, С. Дж. Хогарта, Дэвида Лоу, Дэвида Пэттерсона, славистки, представляющей Британию, Сары Дж. Янг, американских супругов Ричарда Пивера и Ларисы Волохонской, Майкла Каца, американского русиста Роберта Бёрда, отечественных переводчиков: Константина Федина, Ольги Шарце, Елены Блаватской и многих других. В подавляющем большинстве это качественные переводы, авторы которых находят интересные решения непростых художественных замыслов Ф. М. Достоевского, а некоторые известны и как исследователи его творчества.
На современном этапе развития транслатоло-гии значительная часть работ в области передачи идиостиля Ф. М. Достоевского при переводе посвящена анализу психологических аспектов, духовных изысканий, языковых и авторских метафор, характеризующих внутренний мир персонажей, различных концептов, таких, например, как смерть, деньги, судьба. Появляются и чисто лингвистические работы, рассматривающие, как правило, адекватность передачи различных языковых явлений (фразеологических единиц, просторечий, безэквивалентной лексики, реалий и пр.) в варианте перевода [9], [10], [14], [15].
Целью настоящего исследования является выявление основных трудностей перевода лексики Ф. М. Достоевского на английский язык и характеристика способов их решения. В статье обобщаются результаты работы над романом «Идиот» и рядом рассказов: «Белые ночи», «Скверный анекдот», «Сон смешного человека», «Кроткая», «Слабое сердце» и их переводами, выполненными Евой Мартин, Юлиусом Катцером, Ольгой Шарце, Ивом Литвиновым, Константином Фединым.
***
Помехи в понимании немецкий философ Ханс-Георг Гадамер назвал атопонами – непонятными или малопонятными единицами любого рода в тексте [6: 45], которые можно классифицировать в соответствии с уровнями языка. Так, выделяются лексико-грамматические ато-поны (агнонимы или семантемы), когнитивные атопоны (когнемы) и прагматические атопо-ны (прагмемы) [15]. Атопоны-семантемы – это лексические единицы, непонимание которых связано с обыденным значением слов, это так называемые новообразования – лексические единицы, которые не употребляются в современном русском литературном языке, или сло- ва, которые могут быть понятны современному читателю, но в другом значении. Это и жаргонизмы, коллоквиализмы, просторечные слова, историзмы, варваризмы. В эту же группу попадают и слова с заменой рода: манер (м. р.), пенсне, мигрень (м. р.), апофеоза (ж. р.), апогея (ж. р.) или слова с добавлением суффикса: организиро-вать, экономизировать и, наоборот, отсутствием его: анализовать, цитовать. Такие индивидуальные авторские образования, которые часто квалифицируются как языковая игра, можно отнести к гапаксам. Эти слова, отсутствующие у современников Достоевского, используются для создания игрового эффекта, передачи экспрессивной функции – пофанфаронить, заневинно, куцаве-ешный, купчик и т. д. Непонимание атопонов-когнем обусловлено отсутствием необходимых фоновых знаний, в этот пласт лексики попадают реалии, фразеологические единицы, устойчивые терминологические сочетания, аллюзии, пословицы, поговорки, метафоры, иноязычные изречения. Атопоны-прагмемы – это единицы, непонимание которых зависит от их эмоционально-оценочных или функционально-стилистических характеристик. Это слова и словосочетания, которые вызваны непониманием авторской интенции, которые употребляются для создания иронического и любого другого эмоционально -экспрессивного эффекта. Это модальные частицы, междометия, бранная лексика, прозвища, звукоподражания, дразнилки и т. д. [15].
Следует отметить, что деление атопонов является относительным, условным, группы способны пересекаться друг с другом, поэтому предложенная выше классификация не претендует на безапелляционность и абсолютное совершенство. Тем не менее она научна, полезна и находит отражение в некоторых современных работах по переводу [9], [10]. Автор, а тем более переводчик должны оценивать и учитывать, что известно, а что является новым для адресата, насколько глубоки его знания в той или иной области. Результатом «неадекватной оценки (или игнорирования) уровня знаний собеседника» может стать сбой в коммуникации, проявляющийся «в мысленном отторжении текста» [2: 10]. Пояснение значений атопонов должно способствовать адекватному восприятию текста читателем и заполнению внутриязыковых и межкультурных лакун в его лексиконе.
Самой многочисленной группой лексем в исследуемых произведениях, создающих трудности при переводе, является группа атопонов, используемых для обозначения уникальных русских реалий, культурно-исторических феноменов, общественно-политического устройства, предметов быта и обихода, меры длины, средств пере- движения, денежных единиц, мебели, сословий, чинов, рангов и др. На английский язык они переводятся либо эквивалентом, либо аналогом, либо описательным приемом: уезд – district, фельдфебель – sergeant-major, поручик – lieutenant in the army, чепец – bonnet, свояк – related by marriage, нарочный – messenger, долговая – debtor’s prison, галантир – meat jelly, сановник – a high offi cial, управа – Municipal Council, копейка – kopek, рубль, целковый – rouble и др.1
Названия игр преимущественно переводятся описанием: играть в жмурки – play blind man’s buff или с помощью функционального аналога с заменой названия одной игры, незнакомой читателю перевода, на другую, знакомую – play hide-and-seek , что соответствует русскому в прятки , а в случае с игрой в палки переводчик вообще прибегает к опущению и пропускает целое предложение.
При переводе ономастических реалий основным способом является транскрибирование или транслитерирование, что представляется вполне правомерным, поскольку механическая передача звукового или буквенного облика иноязычной лексической единицы позволяет сохранить и наиболее точно передать национально-исторический колорит. Это передача и имен: Mrs. Yepanchin (Epanchin), Parfyon Rogozhin, Nastasia Philippovna, Lev Nikolayevich Myshkin, Ganya, Ferdyshchenko, Varvara Ardalionovna, Aglaia Yepanchin , и некоторых географических названий: Pavlofsk, Yekaterinhof, Tsarskoye Selo, Kamenny Ostrov . При переводе названий улиц, проспектов частотным способом является калькирование – Summer Gardens и полукалькирование, при котором в переводном тексте транскрибируется собственное имя и калькируется второй компонент: Nevskiy prospect, Sadovaya Street, Liteiny Street, Morskaya Street, Gorokhovaya Street, Vorobyov Hills. При переводе известных и частотных названий используется освоение, поскольку реалии данной категории адаптируются, получают обличие другого языка и трудностей не вызывают: St. Petersburg, Moscow, Paris, Warsaw, Switzerland, Russia, Berlin, Siberia .
Существует, однако, ряд проблем, связанных с переводом имен собственных в художественном тексте. Прежде всего это касается передачи уменьшительно-ласкательных, уничижительных или увеличительных значений, выраженных суффиксами субъективной оценки. Как известно, английский язык вообще не имеет диминутивных форм как регулярной семантической и словообразовательной категории [13: 174]. Опущение диминутивности при переводе ведет к недопустимому искажению коннотации, эмоционального характера коммуникации и, как следствие, искажению авторского замысла. Например, Ганя, Ганька, Ганечка - все три варианта переводятся как Ganya, Леночка - Lena, Варька - Varya, Алексашка - Alex, Коля, Коленька - Kolya. Как видим, из приведенных примеров стирается коннотация более близких, теплых отношений, выражения симпатии и создаются потери в раскрытии образа. На наш взгляд, здесь уместнее было бы использование вариантов dear Kolya, dear Lena или, как предлагается в переводе Ольги Шатце, транскрибированного варианта Vasyuk, Arkasha, Lizanka, Petenka.
Эта же проблема стилистической нейтрализации и пренебрежения суффиксами субъективной оценки касается и перевода нарицательных существительных: мамаша, маменька, маман -mother, деревенька – village, сестрица – sister, лгунишка – liar, бородища – beard, сапожища – boots, флигелечек – wing, словцо – word, комнатка - room и т. д. В то же время в исследованных вариантах перевода встречались и атрибутивные сочетания, подчеркивающие экспрессивный или уменьшительный оттенок: купчик - young merchant, голубчик - dear prince (с элементом контекстуальной замены), кредиторишки - petty creditors, молодка – my good woman, братец – dear fellow, домишко – little house.
К частотным зарегистрированным нами ато-понам-прагмемам относится так называемый сло-воерс - название частицы -с , этимологически связанное с так же часто используемым обращением в знак почтения сударь: было-с, идти-с, пообещали-с, понятно-с. Особенно изобилует словоерсом речь подобострастного, угодливого Лебедева. Во всех вариантах перевода это явление полностью игнорируется, за счет чего стирается эффект демонстративного самоунижения.
Не сомненную трудность для переводчика представляют и атопоны-когнемы, выраженные фразеологическими единицами, которые широко представлены в исследуемом романе. Причина этой сложности заключается не столько в семантической спаянности компонентов фразеологических единиц, сколько в их функции: они употребляются преимущественно для экспрессивно - оценочного обозначения референта. Они не просто передают определенную информацию, но и оказывают воздействие на чувства и воображение реципиента. На сегодняшний день выделены три вида перевода фразеологизмов: фразеологический (аналогом или эквивалентом), нефразеологический (лексический - то есть словом, дословный - калькированием, описательный - толкованием) и контекстуальный (замена), когда отсутствуют эквиваленты и аналоги и фразеологизм приходится передавать нефразеологическими средствами.
Все три типа перевода фразеологических единиц присутствуют в анализируемых вариантах перевода. В большинстве случаев переводчики стремятся передать образность и сохранить экспрессивность: сидеть как на иголках - to be on tenterhooks (аналог), мокрая курица - poor fish (эквивалент), делать из мухи слона - make a mountain out of a molehill (эквивалент), отправил его с плеч долой - set him packing (нефразеологический - лексический), сидеть на бобах - to be stranded (нефразеологический - лексический), приехал сюда сломя голову – has come rushing here like mad (нефразеологический - описательный), точно из мертвых воскрес - as if given a new lease of life (во втором варианте перевода калькированием - seemed to arise from the dead ), дал стречка (более частый вариант стрекача ) -made for the kitchen (контекстуальная замена), пословица Свежо предание, да верится с трудом - It’s a new tale, but hard to believe (калькирование), сломать (в тексте разбить) лед - to break ice (калькированный вариант перевода в пассиве лед был разбит - the ice was broken ). В целом следует отметить, что переводчикам удалось сохранить и передать колорит и экспрессивность, хотя в ряде случаев окраска представляется несколько стертой, например: намылил голову - gave her a piece of my mind.
Еще одну трудность перевода представляют атопоны-прагмемы, то есть фамильярно-разговорные, просторечные слова и выражения со сниженной стилистической окраской, широко используемые для передачи негативного, пренебрежительного отношения или создания комического эффекта. Это такие слова, как надуть - let somebody in for something, спятить – to be mad, финтить – to fi nesse, облапошить – to humbug, укокошить – to cut the throat, шваркнуть – cast down, шпынять – nag, простофиля – simpleton, сморчок – fool, кондрашка пришиб – had a stroke и мн. др. Значительная часть подобных слов и выражений звучит из уст генеральши Епанчиной, одного из самых ярких образов романа, чья речь, изобилующая обращениями, эмоционально-экспрессивной лексикой, фразеологизмами, пословицами, императивом, представляет наибольший интерес с точки зрения перевода. Елизавета Прокофиевна остра на язык, не стесняется в выражениях и в проявлении чувств, называет все своими именами, может и позлословить, и покритиковать, и высмеять. Только она может сказать в лицо князю Мышкину скверный кня-зишка, дрянной идиотишка, уродик (wretched prince, miserable idiot, freak), дурачок, простофиля (simpleton, ninny), сморчок (fool) или приказным тоном выкрикивать: Не финти! - Don’t try to shuffle out of replying! Молчи! – Hold your tongue!
Экая галиматья! – What balderdash! Мальчишка! – The whippersnapper! Простофиля! Мокрая курица! - Ninny! Только она может назвать дочку самовластной, сумасшедшей, избалованной девкой - She is a willful, crazy and spoilt girl, а Настасью Филипповну обозвать тварью, этой тварью, наглой тварью, швалью – creature, that creature, jackanapes, trash, scum. В последних примерах и русский вариант, и вариант перевода демонстрируют сниженную, уничижительную, грубую лексику. А примеры типа мерзкая шляпенка -miserable little hat, фанфаронишка – mean little braggart , хотя и переводятся на английский язык с помощью атрибутивного сочетания, на наш взгляд, не полностью передают экспрессию и приводят к некоторой потере образной составляющей. Самым наглядным примером этому является упоминание генеральшей княгини Белоконской, которая в оригинале упоминается как старуха, старушонка, дрянная старушонка. Эвфемистический перевод во всех случаях намеренно представлен нейтральным вариантом old lady .
Само слово генеральша неоднозначно переводится на английский язык. То оно предстает контекстуальной заменой the lady of the house , то Mrs. General Yepanchin, то the mother, то Mrs. Yepanchin , то Lizaveta Prokofievna , то my wife. Обратим внимание, что в английском варианте отсутствует конечный показатель женского рода в фамилиях и используется мужская форма в сочетании с женским именем ( Aglaia Yepanchin, Vera Lebedev, Mrs. Ivolgin, Mrs. Ptitsin ). Это подтверждает факт отсутствия морфологически выраженной категории рода у английских существительных, хотя в настоящее время это правило не соблюдается.
Большой интерес для переводчика представляет также группа гапаксов, лексических окказиональных новообразований, которые можно квалифицировать как языковую игру, у Достоевского часто с суффиксами субъективной оценки. Это такие слова, как: сживывал (на тот свет) – would have shaken the soul out of a man, would have given a man a ticket to the other world, деспотка – despot, князишка – wretched prince, идиотишка – miserable idiot, уродик – freak, рас-капиталист – a big capitalist, купчик – young merchant, скучнехонько – damnably bored, заночевывать – spend the rest of the night, пофанфа-ронить – swagger, play down one’s braggadocio, вскидчива – headstrong.
До сто евский для достижения стилистического эффекта нарушает грамматические и словообразовательные нормы, пренебрегает и лексической инвариантно стью фразеологических единиц - из мухи слона сочинили (не сделали), выйти из рельсов (не сойти с). В тексте перевода намеренные нарушения словообразования и лексической сочетаемости, как правило, игнорируются и передаются нейтральными вариантами: made a mountain out of a molehill, take a step off the road of convention.
Определенную проблему представляет перевод междометий и обращений. В значительной степени вариант перевода зависит от интенции переводчика. Например: Тью! Что взял! - Whew, you got it good and proper!, в другом варианте: Tfu! look what the fellow got! Или Тьфу! - Pfu!; Фью! Эк ведь вас! – Whew, that’s a long way off!, или Wheugh! my goodness! Хе! - H’m!, или Hey! that’s it!
В переводе Юлиуса Катцера обращение генеральши к князю Мышкину батюшка, голубчик переводится my dear boy, my good boy, my lad, my friend, my dear fellow, my good friend, в то время как голубчик, адресованное к Лебедеву или Евгению Павловичу, как правило, опускается, а к Иволгину передается как sir.
ВЫВОДЫ
Мы рассмотрели лишь некоторые случаи, представляющие трудности для переводчика. Анализ примеров подтвердил тот факт, что перевод акопонов в художественном тексте - одна из чрезвычайно сложных переводческих проблем, при решении которой следует принимать во внимание разнообразные факторы для создания оптимального варианта перевода, вызывающего верные эстетические и эмоциональные чувства и сохраняющего колорит страны. Когда мы имеем дело с текстом, созданным в другую историческую эпоху, всегда в этом тексте остается что -то непонятное или не полностью понятное. Тем более, это касается текста инокультурного, написанного на другом языке. Изначальная настроенность переводчика на области возможного непонимания или неполного понимания, естественно, затрудняет его работу, но одновременно позволяет выполнять перевод более качественно. Образное мышление, языковая грамотность, отсутствие дословного перевода, хорошее знание культуры и традиций страны, мастерство владения родным языком и определенным стилем художественного перевода, эстетика восприятия реальности являются теми качествами, которыми должны отличаться специалисты в области художественного перевода литературы. Осознавая тот факт, что абсолютно адекватная передача художественного текста в принципе невозможна, мы убеждены, что правильность перевода во многом зависит от того, насколько хорошо понимается переводчиком текст оригинала, и от умения спрогнозировать возможные трудности.
125 p. DOI: 10.5007/6321
Список литературы О некоторых трудностях перевода произведений Ф. М. Достоевского на английский язык
- Алексеева В . Н. Проблема перевода художественного произведения на иностранный язык // Ярославский педагогический вестник. 2012. Т. 1, № 3. С. 153-155.
- Болдырев Н. Н. Проблемы вербальной коммуникации в когнитивном контексте // Вопросы когнитивной лингвистики. 2017. № 2 (51). С. 5-14. DOI: 10.20916/1812-3228-2017-2-5-14
- Бурлакова М. В . Особенности обучения художественному переводу студентов педагогической специальности // Перевод в меняющемся мире: Материалы 2-го Междунар. науч. симпозиума. М.: Азбуковник, 2016. С. 104-107.
- Виноградов В . С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы). М.: Изд-во Ин-та общего среднего образования РАО, 2001. 224 с.
- Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М.: Международные отношения, 1980. 415 с.
- Гадамер Г. Г. Язык и понимание // Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 43-59.
- Давыдова Т. С. Особенности передачи наименований реалий на английский язык (на материале произведений русских писателей) // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2021. Т. 43, № 3. С. 41-47. DOI: 10.15393/uchz.art.2021.599
- Казакова Т. А. Практические вопросы перевода. М.: Союз, 2001. 320 с.
- Котцова Е. Е. Семантическая адаптация англицизмов - агнонимов в лексике русского языка // Вопросы когнитивной лингвистики. 2019. № 2. С. 139-146. DOI: 10.20916/1812-3228-2019-2-139-146
- Котцова Е. Е. Агнонимы как объект языковой рефлексии в текстах современной периодики // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Сер. Гуманитарные и социальные науки. 2019. № 4. С. 82-90. DOI: 10.17238/issn2227-6564.2019.4.82
- Латышев Л. К., Семенов А. Л. Перевод: теория, практика и методика преподавания. М.: ACADEMA, 2003. 192 с.
- Левицкая Т. Р., Фитерман А. М. Теория и практика перевода с английского языка на русский. М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1963. 263 с.
- Менькова Н . В . Русские диминутивы в английском переводе романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Ярославский педагогический вестник. 2010. № 3. С. 174-179.
- Ружицкая Э. А., Ружицкий И. В . Переводчику Достоевского // Перевод в меняющемся мире: Материалы 2-го Междунар. науч. симпозиума. М.: Азбуковник, 2016. С. 150-154.
- Ружицкий И. В . Атопоны Достоевского: к проекту словаря // Вопросы лексикографии. 2014. № 1 (5). С. 56-75.
- Федоров А. В . Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: ООО «Издательский Дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002. 416 с.
- Шелестюк Е. В., Гриценко Э. Д. О форенизации и доместикации в переводе и возможностях их лингвистической оценки // Вестник Челябинского государственного университета. 2016. № 4 (386). С. 202-207.
- Baker M. A. Coursebook on translation. London: St. Jerome Publishing, 1992. 320 p.
- K l a u d y K. Languages in translation. Lectures on the theory, teaching and practice of translation. Budapest: Scholastica, 2003. 343 p. DOI: 10.5944/epos.20-21.2004.10492
- Newmark P. Approaches to translation. London: Oxford University Press, 1988. 125 p.
- Nida E. A. Contexts in translating. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2001. 125 p. DOI: 10.5007/6321
- Ve nu t i L . The translator's invisibility. London; New York, 1995. 368 p. DOI: 10.5195/jffp.1997.390
- Ya n g W. Brief study in domestication and foreignization in translation // Journal of Language Teaching and Research. 2010. Vol. 1 (1). P. 77-80. DOI: 10.4304/jltr.1.1.77-80