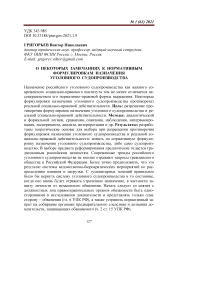О некоторых замечаниях к нормативным формулировкам назначения уголовного судопроизводства
Автор: Григорьев Виктор Николаевич
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Актуальные вопросы развития отраслевого законодательства
Статья в выпуске: 1 (63), 2021 года.
Бесплатный доступ
Назначение российского уголовного судопроизводства как важного современного социально-правового института тем не менее отличается несовершенством его нормативно-правовой формы выражения. Некоторые формулировки назначения уголовного судопроизводства противоречат реальной социально-правовой действительности. Цель: разрешение противоречия формулировок назначения уголовного судопроизводства и реальной социально-правовой действительности. Методы: диалектической и формальной логики, сравнения, описания, наблюдения, интервьюирования, эксперимента, анализа, интерпретации и др. Результаты: разработаны теоретические основы для выбора при разрешении противоречия формулировок назначения уголовного судопроизводства и реальной социально-правовой действительности: менять ли нормативную формулировку назначения уголовного судопроизводства, либо само судопроизводство. В выборе предмета реформирования предпочтение отдается традиционным российским ценностям. Современные тренды российского уголовного судопроизводства не вполне отражают запросы гражданского общества в Российской Федерации. Более точно предположить, что это результат системы ведомственно-бюрократических мероприятий по распределению влияния и нагрузки. С гуманитарных позиций правильнее было бы вернуть систему уголовного судопроизводства в то состояние, когда оно вновь будет отражать утраченное назначение, в частности защиту личности от незаконного обвинения. Начать следует со снятия с должностных лиц правоохранительных органов обязанности быть односторонними в исследовании доказательств и представлять только одну сторону - обвинения (гл. 6 УПК РФ), а также устранить нормативный запрет на собирание органами предварительного следствия и дознания доказательств, защищающих обвиняемого (ч. 2 ст. 15 УПК РФ).
Суд, участники уголовного судопроизводства, обвинение, назначение уголовного судопроизводства, односторонность в расследовании и судебном разбирательстве, оптимизация уголовного судопроизводства, фрагментация обстоятельств преступления
Короткий адрес: https://sciup.org/142232957
IDR: 142232957 | УДК: 343.985
Текст научной статьи О некоторых замечаниях к нормативным формулировкам назначения уголовного судопроизводства
Одной из самых злободневных проблем сегодня, на мой взгляд, является проблема назначения российского уголовного судопроизводства. Для чего этот социально-правовой институт, кому он служит? – это основной вопрос современной российской науки и практики уголовного судопроизводства.
Дело в том, что арсенал уголовного судопроизводства с его возможностями задержаний, обысков, арестов, фальсификаций и дискредитаций повсеместно на всех уровнях стал активно использоваться для решения политических, корпоративных, а порой и личных проблем, не связанных с раскрытием преступлений, для сведения счетов с оппонентами, конкурентами и недругами. Возбуждение уголовного дела стало использоваться оборотистыми сотрудниками правоохранительных органов для извлечения прибыли и как удобный рычаг воздействия на оппонентов со стороны власть предержащих. Не является большим секретом «прейскурант» на уголовно-процессуальные услуги. Мне называли конкретную стоимость возбуждения уголовного дела, проведения обыска с изъятием заказанных объектов (обычно это компьютерные базы), заключения под стражу, а если с последующим осуждением, то цена совсем другая. Все прочие проблемы, начиная от значения правовых категорий и заканчивая элементами процессуального статуса тех или иных участников уголовного судопроизводства или организационно-правовыми формами (производствами) облегчения труда служителей Фемиды, также очень важны, но они производны от решения главного вопроса: для чего у нас суд – на осуд или на рассуд? Вопрос не только не праздный и не риторический, это вопрос нашей сути, правильно поняв которую, мы узнаем, «откуду есть пошла русская земля» [1, с. 9].
Возникают некоторые замечания и по конкретным нормативным формулировкам назначения уголовного судопроизводства. Первое, что бросается в глаза, это абсолютная неприемлемость с точки зрения русского языка фразы «уголовное судопроизводство имеет своим назначением…» (ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Не могу судить достоверно о том, что это – плохой подстрочник с английского в его американском изображении или же просто невежество сочинителя. Оба предположения вполне вероятны. Трудно понять, почему оказались неугодными определения, ко- торые вполне могли быть построены по правилам русского литературного языка: в сокращенном варианте – «назначение уголовного судопроизводства:…», в более приемлемом, на мой взгляд, полном – «назначение уголовного судопроизводства состоит в том, чтобы: 1) защищать…».
Второй пункт в нормативном изображении назначения уголовного судопроизводства (защита «личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод» – п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ) вызывает замечания по существу. Казалось бы, вполне приемлемая, насыщенная гуманистическим содержанием формулировка. Однако проблема заключается в том, что правовой механизм для реализации данного назначения в значительной мере выхолощен. Из восьми участников уголовного судопроизводства – представителей государства – только одному в законе не предписан односторонний обвинительный уклон – суду. Все остальные (прокурор, следователь, руководитель следственного органа и т. д.) однозначно поставлены законом в гл. 6 УПК РФ только на одну сторону – обвинения. Поэтому заниматься защитой личности от обвинения для них не только не корпоративно, но и противозаконно. Особенно с учетом того, что обвинение для них – это процессуальная позиция, подлежащая обоснованию даже в случае очевидной неправоты. Получается, что современные деятели юстиции добросовестно отрабатывают несуразности закона, предписывающего им лишь одну позицию – быть на стороне обвинения [2; 3].
Весьма показательным в этом отношении является уголовное дело по обвинению Долматова В.А. и Савченко Д.М. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ. Его рассмотрение в Тверском районном суде города Москвы завершилось 10 августа 2017 г. обвинительным приговором, по которому подсудимые были признаны виновными в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц и приговорены к лишению свободы на шесть лет и шесть месяцев каждый1. При этом и следователь, и суд проигнорировали видеозаписи происшествия, на которых отчетливо видно, что не Долматов и Савченко напали на «потерпевшего», а, наоборот, потерпевший в результате неумелых действий сам «нарвался» на свою же металлическую палку, которую применил при нападении на Савченко, в результате чего оказался в но- кауте. Апелляционная инстанция также встала на сторону обвинения, оставив приговор в силе.
Президиум Московского городского суда 24 июня 2018 г. отменил указанный приговор от 10 августа 2017 г. и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 4 декабря 2017 г.1 и направил уголовное дело на новое судебное разбирательство в ином составе суда. А 25 декабря 2018 г. Тверской районный суд города Москвы вынес в отношении Долматова В.А. и Савченко Д.М. оправдательный приговор. Оба подсудимые были признаны невиновными в связи с отсутствием в их действиях состава преступления2. Таким образом, суд, полно и всесторонне исследовав представленные доказательства, установил действительные обстоятельства происшествия, в результате чего преодолел навязанный стороной обвинения обвинительный уклон [4, с. 176–177].
Не считает же законодатель, что реализация назначения уголовного судопроизводства – защищать личность – должна быть возложена на защитника и тем более на иных участников. Это удел, прежде всего, органов государства.
Чтобы разрешить противоречие нормативной формулировки назначения уголовного судопроизводства с реальной социально-правовой действительностью, следует сделать выбор: либо менять формулировку назначения уголовного судопроизводства, либо само судопроизводство приводить в соответствие с его назначением.
Судя по современным трендам, проще и правильнее убрать из нормы о назначении уголовного судопроизводства слова о защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав как не соответствующие сложившейся в России модели уголовного судопроизводства и ее практической реализации. Однако я, например, не считаю, что эти современные тренды отражают действительные запросы российского гражданского общества. Это в большей мере результат системы ведомственно-бюрократических мероприятий по распределению влияния и нагрузки. С гуманитарных позиций правильнее было бы вернуть систему уголовного судопроизводства в то состояние, когда оно вновь будет отражать утраченное назначение – защита личности от незаконного и необоснованного обвинения и осуждения. Это же, на мой взгляд, будет в большей мере соответствовать духовнонравственным запросам и традициям российского общества.
Начать следует со снятия с должностных лиц правоохранительных органов обязанности быть односторонними в исследовании доказательств и представлять только одну сторону – обвинения (гл. 6 УПК РФ), а также устранить нормативный запрет для следователя, руководителя следственного органа, органа дознания, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, дознавателя собирать доказательства, защищающие обвиняемого (ч. 2 ст. 15 УПК РФ).
Список литературы О некоторых замечаниях к нормативным формулировкам назначения уголовного судопроизводства
- Повесть временных лет. Ч. 1. Текст и перевод / пер. Д.С. Лихачева и Б.А. Романова; под ред. чл.-кор. АН СССР В.П. Адриановой-Перетц. М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1950. 504 с.
- Григорьев В.Н. Суд не на осуд, а на рассуд // Проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства: сб. матер. Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. В.М. Зимина, Т.Ю. Новиковой, Е.А. Ануфриевой, В.П. Бодаевского, Д.А. Захарова. Симферополь: ИТ "Ариал", 2018. С. 195-197.
- EDN: XOYNXV
- Григорьев В.Н. "Новый прием" установления истины по уголовному делу - фрагментирование обстоятельств // Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика: матер. VI Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. М.А. Михайлов, Т.В. Омельченко; Крымск. федер. ун-т им. В.И. Вернадского. Симферополь: ИТ "Ариал", 2018. С. 25-27.
- EDN: XOZYHR
- Савенков А.В. Фиксация сведений в системе уголовно-процессуального доказывания (общие положения и частные ситуации): дис.. канд. юрид. наук. М., 2020. 218 с.