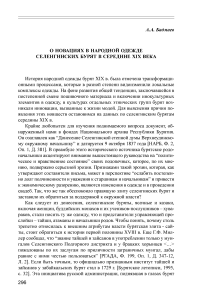О новациях в народной одежде селенгинских бурят в середине XIX века
Автор: Бадмаев А.А.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XIV, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521454
IDR: 14521454
Текст статьи О новациях в народной одежде селенгинских бурят в середине XIX века
История народной одежды бурят XIX в. была отмечена трансформационными процессами, которые в разной степени видоизменили локальные комплексы одежды. На фоне развития общей тенденции, заключавшейся в постепенной смене пошивочного материала и включении инокультурных элементов в одежду, в культурах отдельных этнических групп бурят возникали инновации, вызванные к жизни модой. Для выяснения причин появления этих новшеств остановимся на данных по селенгинским бурятам середины XIX в.
Крайне любопытен для изучения поднимаемого вопроса документ, обнаруженный нами в фондах Национального архива Республики Бурятия. Он озаглавлен как “Донесение Селенгинской степной думы Верхнеудинскому окружному начальнику” и датируется 9 октября 1837 года [НАРБ, Ф. 2, Оп. 1, Д. 381]. В преамбуле этого исторического источника бурятские родоначальники акцентируют внимание вышестоящего руководства на “политическое и нравственное состояние” своих подопечных, которое, по их мнению, подвержено серьезной эрозии. Признаками такой эрозии, которая, как утверждают составители письма, может в перспективе “ослабить постепенно долг подчиненности и уважения к старшинам и начальникам” и привести к экономическому разорению, являются изменения в одежде и в проведении свадеб. Так, что же так обеспокоило правящую элиту селенгинских бурят и заставило их обратиться за поддержкой к окружной власти?
Как следует из донесения, селенгинские буряты, ясачные и казаки, включая женщин, буддийских монахов и их учеников-послушников – хува-раков, стали носить ту же одежду, что и представители управляющей прослойки – тайши, атаманы и начальники родов. Чтобы понять, почему столь трепетно относилась к внешним атрибутам власти бурятская элита - сайты, стоит обратиться к истории первой половины XVIII в. Еще Г.Ф. Миллер сообщал, что “звание тайшей и зайсанов в употреблении только у мунгалов Селенгинского Подгорного дистрикта и у брацких хорынцев <…> пожалованы по их заслугам по приличности заграничных мунгал, дабы равное с ними честью пользоваться” [РГАДА, Ф. 199, Оп. 1, Д. 347-12, Л. 2]. Если быть точным, то официально признанным институт тайшей и зайсанов у забайкальских бурят стал в 1729 г. [Бурятские летописи, 1995, c. 32]. Эта инициатива русской администрации, поднявшая в глазах бурят авторитет их родовой аристократии и сделавшая ее представителей более лояльными к власти, по сути на долгое время превратила в наследственные должности тайшей и зайсанов. В XIX в. эти должности постепенно перестают быть наследуемыми, и становятся выборными. Между тем по Уставу об управлении инородцев 1822 г. звания зайсана, а также засула и шу-ленги были фактически отменены, вместо них появились т.н. заседатели степной думы [Полн. собр., 1830].
Принадлежность к высшему сословию подчеркивалась регламентацией одежды. В рассматриваемом нами документе об этом также указывается: “… в отличие от простого народа сообразно степени, званию и должности, ими отправляемой, имели на шапках красные, синие и белые шарики из коралла, лазурика, горного хрусталя и стекла состоящие, как знаки одним только чиновникам присвоенные и известные у заграничных монголов под именем джинсэ. Верхнее же платье состояло у них из китайских материй, вышитых шелками и называемых магнук; шапки были собольи, а сапоги верверетовые*.” [НАРБ, Ф. 2, Оп. 1. Д. 381, Л. 1 Об.]. Очевидно, что на размывание сословных различий в одежде повлияла, с одной стороны, приграничная русско-китайская торговля, активно развивавшаяся в XVIII – XIX вв., благодаря которой такой острой нехватки как в предыдущем XVII столетии в тканях, промышленных и продуктовых товарах буряты не испытывали. Среди импортируемых из Китая товаров значились драгоценные камни, разные сорта чая, бадьян, лекарства, деревянные и металлические изделия и т.д. В документах середины XVIII в. обнаруживаем, например, такой перечень различных видов китайских тканей: голеи; полуголеи; канфа; атлас; флер; фанза; шелк (сырой и сученный); китайка; тунхай; камый и др. [РГАДА, Ф. 24, Оп. 1, Д. 9-1, Л. 26 - 28 Об.]. Правда, не обходилось и без курьезов. Порой оказывалось, что под видом дорогого сорта ткани бурятам продавали перекрашенную дешевую – так, на поверку выяснилось, что китайский материал далемба ничто иное, как продукт английской мануфактуры дриллинг [Залкинд, 1970, c. 96]. Развитие ярмарочной и мелочной торговли в XIX в. способствовало тому, что китайские ткани стали широко использоваться в одежде разных социальных групп селенгинских бурят.
С другой стороны, определенную роль сыграла мода. В доказательство этому можно привести выдержку из сочинения ссыльного декабриста Н.А. Бестужева, который, в частности, сообщает: “Загустайцы (загус-тайские буряты – А.Б.), будучи богаче других, первые начали украшать своих жен и дочерей дорогими моржанами, т.е. нитками коралловых корольков, перемешанных с малахитом. Другие, хотя и беднее, но, повинуясь моде, разоряются на покупку этих драгоценностей по настоянию своей женской половины. <…> с увеличением бедности, как будто нарочно, мода на моржаны распространяется все более и более” [Бестужев, 1991, c. 84 - 85]. Как видим, механизм распространения модных вещей строился на обычном человеческом желании быть не хуже других, если даже такое стремление и вело к неизбежному разорению, тяжелым долговым обязательствам. Заметим, что в 1830-1840-е гг. в Забайкалье были часты массовые падежи скота из-за бескормицы, потери нередко составляли до половины стада. В свете этого послание бурятских родоначальников Верхнеудинскому окружному начальнику не выглядит только как проявление сословного эгоизма, но и выражает обеспокоенность общества в целом состоянием бурятской экономики.
Приготовления к свадьбе у селенгинских бурят, как можно понять из литературных и архивных источников середины XIX в., были отягощены опять-таки господствующей модой. Чтобы соответствовать новым запросам времени отец невесты, помимо традиционного включения в приданное определенного числа голов скота разных видов, войлочной юрты, мебели и утвари, должен был также покупать коралловые и серебряные украшения, дорогие сорта китайского шелка для пошива одежды невесты. Вот как об этом пишет Н.А. Бестужев: “Прежде все бурятское племя довольствовалось стеклянными бусами или китайскими будумулами, сделанными из какой-то эластической материи в подражание кораллам, но ныне нельзя выдать девки замуж без того, чтоб у ней не было несколько ниток корольков, по крайней мере, руб. на 250 – 300. От этого калымы, т.е. выкупы за невест, очень дороги, потому что идут на покупку этих украшений.” [Бестужев, 1991, c. 84 - 85]. Само собой разумеющимся было то, что вследствие удорожания приданного калым тоже существенно вырос, а это самым негативным образом сказалось на семейно-брачных отношениях – увеличивалось число холостых мужчин, углублялась социальная дифференциация в брачной области (богатые женились на богатых, бедные – на бедных).
Вообще же описанную выше ситуацию с одеждой можно оценивать как свидетельство развития культуры селенгинских (шире забайкальских) бурят, происходившего в русле опосредованного восприятия некоторых элементов центрально-азиатской культурной модели, в том числе и одежды. Ничего нет удивительного в том, что в качестве образца для народного подражания была взята именно “чиновничья” одежда - та социальная грань в ношении одежды, которой, скажем, строго следовали в феодальном монгольском обществе, в условиях российской действительности, когда складывался новый этнос и сформировался экономически крепкий страт состоятельных людей, легко преодолевалась. Мода в бурятской одежде развивалась в рамках традиционного общества, черпая для своего эстетического роста внутриэтнические резервы, и влияние на нее европейской (русской) культуры в первой половине XIX в. было мало ощутимо.
Понятно, что первыми, кто посягнул на привилегии родовой аристократии в одежде, были богатые буряты, от которых процесс распространился на остальных бурят и даже на духовных лиц. По-видимому, узкая гендерная принадлежность новации в одежде была безболезненно преодолена и она вошла в женскую одежду. Из светских слоев бурятского общества мода перекочевала в среду буддийских служителей, ряды которых в изучаемое время быстро увеличивались за счет неофитов, существенная часть которых после обучения при монастырях жила почти светской жизнью и могла быть восприимчива к новшествам в народной одежде. Думается, что в дацанах, где действовали строгие требования устава, отход от установленных канонов в монашеском одеянии все же не допускался. Попав в бурятский народный костюм серебряные навершия со вставленными камнями украшали головные уборы мужчин и женщин вплоть до начала XX в., причем это было типично не только для селенгинских бурят, но и приса-янских бурят и хори-бурят. Здесь необходимо заметить, что в зависимости от благосостояния вместо серебряного навершия с дорогим камнем люди носили его имитацию из меди со вставкой из стекла или дешевого камня. Китайский узорчатый шелк магнук (также известный как магнал, маг-нул), на котором имелись изображения драконов, был также популярен и использовался на пошив праздничных халатов и шуб. Единственно, обувь из верверета не выдержала испытание временем и в конце XIX в. сапоги эрмэг гутал имели голенища уже из другого материала (кожного и тканного). Таким образом, инновация по прошествии полувека окончательно превратилась в традицию и воспринималась как бурятами, так и приезжими в качестве традиционной одежды. Широкий охват рассмотренного явления позволяет предположить, что в XIX в. селенгинские буряты, а вместе с ними и другие выше перечисленные группы бурят интуитивно искали и вырабатывали общие черты культуры, в том числе и в одежде.