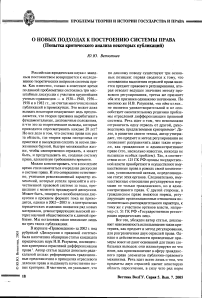О новых подходах к построению системы права (попытка критического анализа некоторых публикаций)
Автор: Ветютнев Ю.Ю.
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Проблемы теории и истории государства и права
Статья в выпуске: 7, 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14972589
IDR: 14972589
Текст статьи О новых подходах к построению системы права (попытка критического анализа некоторых публикаций)
Российская юридическая наука с завидным постоянством возвращается к исследованию теоретических вопросов системы права. Как известно, только в советское время по данной проблематике состоялись три масштабные дискуссии с участием крупнейших ученых-правоведов — в 1938—1940, 1956— 1958 и в 1982 гг., не считая многочисленных публикаций в промежутках. Это может даже вызвать некоторое недоумение: ведь предполагается, что теория призвана вырабатывать фундаментальные, долговечные положения, и что это за теоретические выводы, которые приходится пересматривать каждые 20 лет? Но все дело в том, что система права как раз та область, где теория права неотделима от практики и вынуждена следить за всеми движениями бурной, быстро меняющейся жизни, чтобы своевременно отражать, а может быть, и предугадывать их, создавая систему права, адекватную требованиям времени.
Можно констатировать, что в последнее время стала намечаться очередная дискуссия о системе права. И это совершенно естественно, учитывая революционный характер изменений, которые успели произойти в отечественной правовой системе за годы, прошедшие с момента предыдущей дискуссии. Может быть, говорить о возобновлении дискуссии в прежнем формате пока не приходится, однако в 2002—2003 гг. в центральных юридических изданиях появился ряд новых материалов, демонстрирующих высокий интерес научной общественности к данной проблеме. Мы остановим наше внимание лишь на трех таких публикациях.
В журнале «Правоведение» за 2002 г. под рубрикой «Дискуссия о правовой системе» была напечатана обширная статья кандидата юридических наук Н.В. Разуваева, посвященная критериям отраслевой дифференциации права '. Автор статьи задался довольно радикальной целью: реформировать традиционные представления о принципах отраслевого деления права и выдвинуть качественно новые критерии. В частности, он указывает, что по данному поводу существуют три основных позиции: первая сводится к тому, что основанием выделения отраслей права является предмет правового регулирования, вторая отводит ведущее значение методу правового регулирования, третья же признает оба эти признака одинаково значимыми. По мнению же Н.В. Разуваева, «ни одна из них... не является удовлетворительной и не способствует окончательному решению проблемы отраслевой дифференциации правовой системы. Речь идет о том, что невозможно отграничить одну отрасль от другой, руководствуясь предлагаемыми критериями»2. Далее, в развитие своего тезиса, автор утверждает, что предмет и метод регулирования не позволяют разграничить даже такие отрасли, как гражданское и административное право (что, насколько известно, никогда не вызывало особых проблем). Так, в соответствии со ст. 125 ГК РФ органы государственной власти приобретают и осуществляют имущественные права в рамках своей компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. Следовательно, имущественные отношения регулируются нормами не только гражданского, но и административного права. С другой стороны, в гражданском праве имеются нормы, регулирующие организационные отношения исполнительно-распорядительного характера, к тому же с участием органов власти, например ст. 51 ГК РФ «Государственная регистрация юридических лиц».
Все это, убежден автор статьи, доказывает невозможность использования таких критериев, как предмет и метод регулирования, для разграничения двух отраслей права. Однако в действительности приведенные примеры вовсе не дают оснований для таких глобальных выводов: они иллюстрируют не что иное, как проникновение в сферу гражданского права элементов публично-правового механизма. Речь идет всего лишь о том, что предметы двух отраслей имеют некоторую область пересечения, в силу чего ряд норм относится одновременно к двум отраслям, имеют «двойную прописку» — выражение, ставшее в юриспруденции почти хрестоматийным. Однако Н.В. Разуваев, по-видимо-му, такой возможности попросту не допускает и наличие норм, входящих в предмет обеих отраслей, по непонятной причине расценивает как несостоятельность критериев самого отраслевого деления.
Но самое неожиданное, что критерий разграничения гражданского и административного права в конце концов все-таки обнаруживается: административно-правовые отношения, в отличие от гражданско-правовых, основываются на власти и подчинении, что отражено и в ст. 2 ГК РФ. Не найдя никаких возражений против этого критерия, Н.В. Разуваев принимает его, но с явной неохотой: по его мнению, он не обладает общезначимым характером, а необходим такой критерий, который не сводился бы к легальным положениям и не зависел бы от воли законодателя. Так или иначе, выяснилось, в прямое опровержение ранее сказанного, что гражданское и административное право вполне можно различить по предмету и методу регулирования, так что этот вопрос с обсуждения автором снимается. При этом он делает многозначительную оговорку, что проблема отраслевой дифференциации права этим все же не решается: «есть немало оснований полагать, что метод, так же как и предмет, сам по себе не способен выполнять роль такого критерия»3.
Ранее все попытки обосновать это автору не удавались. Новые аргументы сводятся к следующему: «по крайней мере, гипотетически, можно говорить о наличии таких основанных на власти и подчинении отношений, которые — при условии соответствующего предписания закона — будут подпадать под действие норм гражданского права»4. Против такого гипотетического допущения, конечно, очень трудно возражать, но еще труднее понять, что же оно доказывает. Далее приводится вполне справедливое соображение о том, что не каждая отрасль обладает настолько самостоятельным, специфическим методом регулирования, чтобы только по этому признаку можно было отличить отрасли права друг от друга. Однако речь и не идет о том, что отрасли различаются только по методу регулирования: напротив, метод обычно рассматривается как вспомогательный, факультативный критерий, который применяется лишь в дополнение к предмету регу- лирования. Поэтому все дальнейшие рассуждения автора о невозможности разграничения отраслей по методу в значительной степени лишаются смысла.
Однако попытки комбинирования двух указанных критериев Н.В. Разуваев также признает непродуктивными. На сей раз он, временно оставив в стороне административное право, обращается к гражданскому и семейному праву, объявляя, что «предмет регулирования обеих отраслей можно считать тождественным»5. Напрашивающееся различие, зафиксированное в самих названиях отраслей, а именно, тот факт, что одна из них регулирует отношения в сфере семейной жизни, автор характеризует так: «Разумеется, здесь есть свои отличия (чрезвычайно важные для специалистов)... Но все эти различия, повторяем, не затрагивают сущность самого предмета, аналогичного для гражданского и семейного права»6. Однако в таком случае можно вообще утверждать, что все отрасли тождественны по предмету регулирования; мол, различия «важны для специалистов», но сущности не затрагивают.
Но какие же критерии построения системы права предлагает сам автор? Оказывается, критерии предмета и метода все же отбрасывать не стоит, однако они недостаточны: «для того, чтобы они выполняли свою разграничивающую функцию, следует выявить критерий более общий и более высокого порядка...»7 Честно говоря, этот вывод производит более чем странное впечатление. В самом деле, если все ранее приведенные примеры что-то и доказывают, то как раз обратное — что критерии предмета и метода сами по себе являются слишком общими, декларативными, недостаточно определенными, в силу чего их применение не всегда дает однозначные результаты. По всей видимости, новые критерии как раз должны быть более конкретными и удобными в использовании. Вместо этого нам предлагается ввести нечто еще более абстрактное, «более высокого порядка», но с какой же стати именно это должно привести к прояснению и уточнению отраслевой дифференциации права остается загадкой.
Из предшествующего изложения также ясно, что Н.В. Разуваев неявно придерживается по меньшей мере двух посылок: а) отрасли права должны быть отгорожены друг от друга таким образом, чтобы ни одна норма не могла одновременно принадлежать к двум отраслям; б) каждая отрасль строго от- носится либо к публичному, либо к частному праву. К сожалению, обе эти посылки оказались неверны, что не могло не сказаться на общих результатах исследования.
В качестве новой основы для отраслевой дифференциации права автором предлагается такой критерий, как правовая культура (причем со ссылкой на авторитет С.С. Алексеева, который в одной из работ высказал схожее мнение 8). Но как же именно применять этот новый критерий? Отвечая на данный вопрос, Н.В. Разуваев фактически подменяет проблему отраслевого деления права различением частного и публичного права. Сразу оговоримся: на наш взгляд, проблема частного и публичного права вообще не имеет никакого отношения к отраслевой дифференциации права, поскольку разделительная линия между частным и публичным правом, если и существует, то проходит отнюдь не по границам отраслей права, а внутри них. Частное и публичное право выделяются совсем по другим критериям, нежели отрасли права. Поэтому все пространные рассуждения автора о том, что публичное и частное право представляют собой два качественно различных типа правовой культуры, никакой ясности в существо поставленной проблемы не вносят, а напротив, уводят от нее далеко в сторону. Никаких отчетливых рекомендаций, как же различать между собой отрасли права по признаку правовой культуры, в статье так и не приводится.
Зато появляется еще один критерий отраслевой дифференциации права, который, правда, производен от правовой культуры: по мнению Н.В. Разуваева, им должна выступать юридическая действительность. Здесь все становится еще более интересным: если обратиться к традиционному определению юридической действительности, то это собирательное понятие, которое предстает «и в виде изданных государством юридических норм... и в виде результатов применения этих норм... и в виде правовых взглядов, мнений, воззрений, концепций; и в виде законопослушного, а в широком виде и правонарушающего поведения; и т. д.»9. Иными словами, юридическая действительность включает в себя все правовые и связанные с ними явления общественной жизни, и в этом смысле она синонимична таким категориям, как правовая жизнь и правовая реальность. Возникает вопрос: каким же образом юридическая действительность, частью которой являются и отрасли права, может служить критерием их разграничения? Более того, юридическая действительность включает в себя и правовую культуру, но одновременно с этим является производным от нее критерием. Очевидно одно — применить этот «производный» критерий еще сложнее, чем основной.
Поясняя эти положения, автор прибегает к помощи семиотики и У. Эко, отмечая, что право моделирует социальную реальность и относится к ней, как десигнат к денотату 10. Но если эти рассуждения и имеют отношение к правовой культуре и юридической действительности, то никак не к отраслевому делению системы права.
С еще двумя критериями, сформулированными в самом конце статьи, дело обстоит несколько лучше: они хотя бы ясны по содержанию. Один из них — «синтактический», который призван разграничить отрасли внутри публично-правовой и частно-правовой сфер и означает «неодинаковое соотношение норм различных видов — дозволительных, обязывающих и запрещающих — внутри тех или иных отраслей права, будь то публичное право или частное»11. По сравнению с предыдущими этот критерий, конечно, сильно выигрывает, однако и он фактически не может быть реально применен. Во-первых, чтобы провести границу между отраслями по этому критерию, как предлагает автор, недостаточно того, что соотношение разных норм «неодинаковое» — требуется по меньшей мере знать, каково именно это соотношение в каждой отрасли, иначе просто нечего сравнивать. Во-вторых, непонятно, как измерить это соотношение — разве что путем точного арифметического подсчета норм каждой отрасли и выведения математической формулы? Наконец, в-третьих, чтобы установить соотношение различных норм в пределах одной отрасли, необходимо уже изначально знать, какие нормы к ней относятся. Таким образом, практическая ценность этого критерия также приближается к нулю.
Последний критерий, выдвинутый Н.В. Разуваевым, — так называемый прагматический: «каждой отрасли права присущ свой набор ценностей (принципов), находящихся в различном качественном соотношении друг с другом»12. Это, пожалуй, наиболее рациональное из всех высказанных им положений. Хотя и здесь, при попытке использовать на практике этот критерий, встречаются довольно странные суждения: например, что в гражданском праве ведущей ценностью, подчиняющей себе остальные, яв- ляется свобода, а в семейном — равенство. Однако в целом «прагматический», а точнее, ценностный критерий — единственный из всех четырех, который действительно может иметь значение при построении системы права.
Итак, в поле зрения исследователя попали три достаточно очевидных и общеизвестных правовых явления: во-первых, сочетание в разных отраслях элементов публичного и частно-правового регулирования; во-вторых, существование норм, относящихся одновременно к нескольким отраслям права; наконец, в-третьих, недостаточная четкость в отграничении некоторых отраслей друг от друга. Из всего этого автор сделал вывод о непригодности прежних критериев отраслевого деления права и выработал новые, из которых, впрочем, только один оказался более или менее действующим, содержание же главного критерия и двух остальных в объемистой, 25-страничной, статье так и осталось неразъясненным.
В первом номере журнала «Государство и право» за 2003 г. появились сразу две статьи, посвященные теоретическим вопросам системы права: одна из них написана ученым-цивилистом В.П. Мозолиным 13, другая принадлежит перу саратовских теоретиков права М.И. Байтина и Д.Е. Петрова 14 (последний, кстати, незадолго до этого защитил кандидатскую диссертацию по проблеме отраслей права 15).
Если несовершенство существующей отраслевой структуры права побудило Н.В. Разуваева к поиску новых критериев ее построения, то В.П. Мозолин идет еще дальше и, как о само собой разумеющемся, говорит: «Понятие отрасли права стало настолько девальвированным, что им по существу невозможно пользоваться в практических целях... поэтому оно не должно применяться и при построении современной системы российского права»16. Вместе с тем он признает такие элементы правовой системы, как правовые нормы, правовые институты, а также «более крупные правовые общности», которые получили у него название «ветви права». Ветви права, призванные прийти на смену отраслям права, выделяются по двум основным критериям: во-первых, предметом их регулирования являются общественные отношения, проходящие через все сферы жизнедеятельности общества и государства; во-вторых, каждая из ветвей права имеет только ей присущий тип правоотношения, отличается един- ством структуры и целостностью. Ветвей права В.П. Мозолин насчитывает ровно шесть: гражданское, трудовое, уголовное, административное, налоговое и процессуальное право. Конституционное право он к ветвям права не относит, поскольку каждая ветвь права имеет выход лишь на одну сферу общественных отношений, в то время как конституционное право «имеет дело по существу с основами общественных отношений, независимо от их разновидностей и сфер применения»17 и потому является не ветвью права, а фундаментом и «генерирующим источником» системы права. Помимо конституционного права и ветвей права, существуют также «комплексные правовые образования»: земельное, природоохранное, таможенное, транспортное, банковское право и т. п., которые состоят из норм и институтов основных ветвей права, а также «специальных норм, придающих правовым образованиям целевой регулятивный характер»18.
Этому подходу, безусловно, нельзя отказать в определенной новизне, однако он обладает весьма существенным недостатком — высокой степенью произвольности. Новое представление о системе права излагается В.П. Мозолиным как нечто самоочевидное, часто почти без аргументации, в результате чего без ответа остается множество вопросов: например, по какой именно причине стал необходимым отказ от понятия «отрасли права»? Почему основное подразделение в системе права должно называться «ветвь права», а не как-либо еще? Почему этих ветвей должно быть именно шесть, не больше и не меньше? Как должны теперь называться бывшие отрасли права — конституционное право и «комплексные правовые образования», не попавшие в число ветвей права? Наконец, главное: в чем, собственно, преимущества такой обновленной системы права по сравнению с традиционной отраслевой схемой?
Наиболее осторожный и взвешенный подход к системе права развивают М.И. Байтин и Д.Е. Петров. Они справедливо критикуют позиции В.П. Мозолина по таким вопросам, как понятие права, уровни структуры права и критерии их разграничения, а также предложенные им терминологические новшества. Говоря об основаниях выделения отраслей права, авторы выделяют три группы признаков: общие системные, к которым относится функциональная характеристика отраслей права; материальные признаки (предмет правового регулирования); юридические признаки (метод правового регулирования и особенности правовых норм, входящих в данную отрасль)19. Кроме того, авторы обращают внимание на проблему соотношения отраслей права и отраслей законодательства, высказывая мнение, что критерием деления отраслей законодательства выступает такой фактор, как функции государства20. По своей общей направленности статья М.И. Байтина и Д.Е. Петрова заметно отличается от двух других, рассмотренных нами выше: авторы вовсе не предлагают создавать новую систему права, скорее у них речь идет о возможности некоторого «косметического» изменения уже существующей модели при максимальном сохранении прежних принципов и элементов.
О чем же свидетельствуют проанализированные нами научные публикации? В первую очередь о том, что проблемы, связанные с отраслевой дифференциацией системы права, действительно обладают повышенной научной и практической значимостью и привлекают к себе возрастающий интерес научного сообщества. Однако главная проблема, на наш взгляд, заключается вовсе не в отсутствии критериев для разграничения существующих отраслей права, как полагает Н.В. Разуваев, и не в ошибочности сложившейся терминологии, как считает В.П. Мозолин, она состоит в том, что прежняя система права является слишком узкой, тесной и напоминает тришкин кафтан, то есть «трещит по швам», не вмещая накапливающийся нормативный материал. Иными словами, самой насущной необходимостью является формирование новых отраслей права, причем не механическое, а научно обоснованное. Поэтому следует сделать основной акцент не на перекраивание имеющихся отраслей, а на выработку критериев, которые позволяли бы своевременно и корректно обновлять систему права за счет пополнения ее новыми отраслями. Поэтому, переходя от критической части к конструктивной, мы в порядке гипотезы попытаемся дать примерный перечень основных критериев, которые позволили бы решить проблему формирования новых отраслей в системе российского права.
-
1. Прежде всего, предпосылкой для появления отрасли права является наличие определенной сферы человеческой деятельности, которая обладает предметной самостоятельностью и порождает специфические общественные отношения.
-
2. Эта сфера деятельности должна быть достаточно обширной.
-
3. Еще одно обязательное свойство такой сферы — высокая социальная значимость.
-
4. Эта сфера общественных отношений должна находиться в сфере правового регулирования.
-
5. Далее, в данной области должен присутствовать довольно существенный объем правового регулирования, в противном случае, каким бы качественно самобытным не был предмет регулирования, просто нет материала для конструирования отрасли права.
-
6. Правовые нормы, регулирующие отношения в данной сфере, должны в основной своей массе не принадлежать к уже существующим отраслям права; иначе нет оснований учреждать новую отрасль, так как предмет регулирования полностью поглощается имеющимися отраслями права и образует собой всего лишь внутриотраслевой или межотраслевой правовой институт.
-
7. Еще одной предпосылкой для складывания отрасли права является наличие в данной сфере правового регулирования кодифицированного или аналогичного обобщающего законодательного акта.
-
8. Помимо головного акта, должен присутствовать и ряд специальных по отношению к нему источников права — законов или подзаконных актов, регулирующих отдельные частные вопросы в данной области социальной жизни.
-
9. Сложившаяся таким образом группа правовых норм должна сама по себе носить системный характер, обладать определенной внутренней структурой (например, наличие в ее составе Общей и Особенной частей, подотраслей, институтов и т. п.).
-
10. Наконец, данная совокупность норм должна отличаться содержательным единством — в ней должны выдерживаться единые принципы, ценности и методы правового регулирования, в сочетании создающие особый правовой режим.
Итак, суммируя перечисленные критерии, мы можем сделать следующий вывод: если существует определенная сфера общественной жизни, достаточно обширная, обладающая ярко выраженной качественной спецификой и социальной значимостью, причем в данной сфере действует достаточно большое число правовых норм, в основном не вписывающихся ни в одну из традиционных отраслей права, но составляющих единую систему со своей внутренней структурой, собственными источниками, принципами и правовым режимом, то есть все основания ставить вопрос о формировании новой отрасли права.
Список литературы О новых подходах к построению системы права (попытка критического анализа некоторых публикаций)
- Разуваев Н.В. Правовая система и критерии отраслевой дифференциации права//Правоведение. 2002. № 3. С. 31-55.
- Алексеев С.С. Право: азбука -теория -философия. Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 585
- Денисов Ю.А., Спиридонов Л.И. Абстрактное и конкретное в советском правоведении. Л., 1987. С. 120.
- Мозолин В.П. Система российского права: Доклад на Всерос. конф. 14 ноября 2001 г.//Государство и право. 2003. № 1. С. 107-113.
- Байтин М.И., Петров Д.Е. Система права: к продолжению дискуссии//Государство и право. 2003. № 1. С. 25-34.
- Петров Д.Е. Отрасль права: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Саратов, 2001.