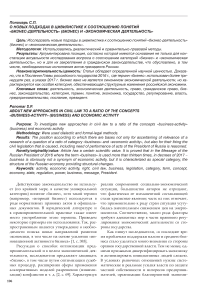О новых подходах в цивилистике к соотношению понятий "бизнес-деятельность" (бизнес) и "экономическая деятельность"
Автор: Пономарь Светлана Пантелеевна
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы юридической науки и практики
Статья в выпуске: 6 (31), 2017 года.
Бесплатный доступ
Цель: Исследовать новые подходы в цивилистике к соотношению понятий «бизнес-деятельность» (бизнес) и «экономическая деятельность». Методология: Использовались диалектический и сравнительно-правовой методы. Результаты: Аргументирована позиция, согласно которой имеются основания не только для констатации актуальности исследования вопроса о соотношении категорий «бизнес» и «экономическая деятельность», но и для их закрепления в гражданском законодательстве, что обусловлено, в том числе, необходимостью исполнения актов президента России. Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью. Доказано, что в Послании Главы российского государства 2016 г., где термин «бизнес» использован более тринадцати раз, в указах 2017 г. бизнес явно не является синонимом экономической деятельности, но характеризуется как особая категория, обеспечивающая структурные изменения российской экономики.
Деятельность, экономическая деятельность, право, гражданское право, бизнес, законодательство, категория, термин, понятие, экономика, государство, регулирование, власть, предпринимательство, послание, президент
Короткий адрес: https://sciup.org/140225129
IDR: 140225129
Текст научной статьи О новых подходах в цивилистике к соотношению понятий "бизнес-деятельность" (бизнес) и "экономическая деятельность"
Действующее законодательство не использует (по крайней мере, в качестве универсальной категории) понятие «бизнес», хотя такой термин (например, «игорный бизнес») используется в ряде нормативных правовых актов и официальных документов. В юридической литературе и в правоприменительной практике также имеет место употребление этого термина. Приведем некоторые примеры его использования. Так, распространенным является утверждение о необходимости поиска новых направлений развития экономики, в том числе на основе усиления «инновационной активности бизнеса» [1, с. 383].
Рассуждая о способах оптимизации предпринимательской и в целом экономической деятельности, исследователи предлагают защищать «бизнес», в том числе путем оптимизации судебных процедур, расширения сферы применения альтернативных моделей разрешения (минимизации) конфликтов и т. д. [2, с. 69]. Характеризуя реалии современной социально-экономической ситуации, большинство авторов не отрицают, что фактически ее имманентной составляющей стали кризисные явления; часть из них отмечает, что применительно к ряду стран ситуация усугубилась значительным снижением цен на энергоносители. Соответственно, такого рода факторы требуют адекватных мер в части правового регулирования экономической деятельности со стороны государства.
Как пишут исследователи, «в последнее время проблемам поддержки малого и среднего бизнеса стало уделяться много внимания со стороны органов государственной власти. Тем не менее, одними призывами диверсифицировать экономику и активизировать инициативных людей сложно. В условиях рыночных отношений нужны систематические и реальные усилия власти по защите частной собственности и интересов предпринимателей, организации благоприятной экономи- ческой среды, устранению барьеров для бизнеса. Только на такой экономико-правовой основе могут успешно решаться все социально-экономические проблемы» [3, с. 9].
Таким образом, все более актуализируется проблематика, связанная с изучением бизнеса, в том числе «в негативных экономических реалиях», которые не самым лучшим образом сказываются на его развитии. Причем сегмент так называемого малого и среднего бизнеса испытывает наибольшие трудности [4, с. 59].
Во многом к аналогичным выводам приходят ученые на основании исследования практики организации вышеуказанного процесса в зарубежных государствах. По мнению А.Г. Демиевой, «в промышленно развитых странах Европы малый и средний бизнес всегда играл ключевую роль в устойчивом росте национальной экономики и повышении благосостояния граждан. Поэтому важнейшей задачей науки является разработка реальной и эффективно работающей системы правовых средств государственной поддержки малого бизнеса» [5, с. 31].
Термин «бизнес» можно обнаружить и непосредственно в названиях монографических исследований, научных статей, посвященных характеристике этого феномена [7, с. 56]. В них обращается внимание на усиление роли гражданского права, которое образует базис в части правового регулирования бизнеса [7, с. 56]. Кроме того, в таких трудах обоснованно исследуется бизнес в контексте развития процессов трансформации российской экономической модели в направлении усиления в ней роли рыночных механизмов, изменения основ правового регулирования не только предпринимательской, но и в целом экономической деятельности [7, с. 56].
Как отмечалось, в действующем законодательстве понятие «бизнес» применяется к сфере лишь отдельных общественных отношений, содержание исследуемой категории при этом не раскрывается. К примеру, в Концепции Правительства России, определяющей перспективное регулирование социального и экономического поступательного развития нашей страны, говорится о необходимости детализации форм и механизмов сотрудничества бизнеса, общества и государства [7, с. 59].
Обращение к иным нормативным правовым актам и официальным документам также позволяет утверждать, что там термин «бизнес» употребляется лишь «фрагментарно», фактически лишь констатируя реалии использования этого понятия субъектами экономической деятельно- сти, но без какой-либо «правовой нагрузки». В качестве примера назовем:
– актуальные нормативные правовые акты, вносящие изменения в законодательство о банковской деятельности, малом, среднем предпринимательстве и т. д. («бизнес-план») (Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 92-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
– законодательство, регламентирующее функционирование экономической системы Республики Крым на переходном этапе («бизнес-план» применительно к кредитной организации) (Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 37-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период»);
– стратегию, определяющую вектор развития российского предпринимательства (малого и среднего) до 2030 г. (термин «рыночные ниши для бизнеса» и т. п.) (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2016 г. № 1083-р (с изм. и доп.) «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» (вместе с «Планом мероприятий («дорожной картой») по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года»);
– методику, регламентирующую формирование программ (регионального и муниципального уровня) применительно к сельскохозяйственных потребительским кооперативам (предусматривает разработку «бизнес-планов» и т. д.) («Методика создания региональных и муниципальных программ развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов», утв. Минсельхозом Российской Федерации 28 апреля 2006 г.).
Однако, по нашему мнению, этот термин приобретает менее «формальный» характер в таких важнейших актах, имеющих принципиальное значение для оптимизации правового регулирования анализируемой (экономической) деятельности, как послания президента России. Так, в Послании 2016 г. термин «бизнес» использован тринадцать раз. Думается, можно утверждать, что это не просто термин, но категория, которая наполняется определенным содержанием и которую априори должен учитывать законодатель в процессе оптимизации регулирования исследуемой деятельности. Так, в этом документе указана необходимость:
-
– «подключения бизнеса» к исследовательской и инженерной работе, в том числе на основе развития современных детских технопарков;
-
– продолжения процесса изменения структуры российской экономики с использованием ресурсов как масштабных инвестиционных проектов, так и малого и среднего бизнеса;
-
– обеспечения беспрепятственной реализации экономических свобод, формирования предсказуемых правил ведения бизнеса (не исключая налоговой сферы и «невзирая на ухудшение экономической ситуации»);
-
– создания базовых сервисов для бизнеса (применительно к оптимизации процесса получения разрешений на осуществление строительной деятельности, доступа к соответствующей инфраструктуре и т. д.);
-
– отмены нормативных правовых актов и официальных документов, препятствующих бизнесу («связывающих бизнес»);
-
– создания чувства уверенности в поддержке государства для каждого индивида, который «честно трудится в своем бизнесе»;
-
– учета и неукоснительного выполнения Послания Президента России 2015 г., в котором констатировалось наличие процесса «давления» на бизнес со стороны ряда правоохранительных структур;
-
– обеспечения кредитования малого бизнеса, исключения неоправданной конкуренции в отношении кредитных ресурсов представителей такого (малого) бизнеса;
-
– исключения любых (правовых, административных и иных) барьеров, препятствующих реализации бизнесом своего потенциала в сфере как существующих, так и потенциальных рынков высоких технологий;
-
– привлечения бизнеса к формированию новой системы среднего профессионального образования.
Мы фактически дословно воспроизвели текст этого важнейшего документа и еще раз подчеркнем, что термин «бизнес», с одной стороны, приобретает уже другое, «программное» для нашей страны, значение, а с другой – конкретизируется в четких задачах, подлежащих немедленному исполнению.
В фактически аналогичном контексте понятие «бизнес» используется и в указах президента. Так, в 2017 г. глава государства указал на:
-
– недостаточность объема инвестиций в реальный сектор российской экономики, во многом обусловленную значительными расходами бизнеса;
-
– неэффективный характер защиты интересов собственников, связанный, в том числе, с такого рода неоправданно завышенными «издержками» бизнеса;
-
– необходимость государства поддерживать высокотехнологичный малый, средний бизнес;
– обеспечение условий, препятствующих росту коррупции, в том числе при сращивании интересов представителей бизнес-структур и государственных чиновников.
Также в 2017 г. глава российского государства в другом своем указе отметил обязательный характер:
-
– активного применения не только органами государственной власти, но и бизнесом новых информационных, коммуникационных ресурсов;
-
– формирования условий для технологических преимуществ российских бизнес-моделей в цифровой экономике в рамках мирового сообщества;
-
– обеспечения доступа к электронным формам коммерческих отношений структурам среднего, малого бизнеса;
-
– укрепления отечественной экономики, включая те ее отрасли, где бизнес с использованием ресурсов информационных и коммуникационных технологий может обеспечить конкурентные преимущества российским субъектам экономической деятельности;
-
– соблюдения законодательства в антимонопольной сфере в ходе реализации бизнеса в сфере цифровой экономики;
-
– совершенствования российского законодательства, административных, в том числе в электронной форме, процедур и бизнес-процессов хозяйствующих субъектов;
– расширения сферы применения информационных технологий с использованием ресурсов не только государства, но и бизнеса.
Необходимо учитывать, что федеральный орган конституционного контроля также применяет понятие «бизнес». Причем обращение к его конкретным актам заставляет усомниться в отожествлении Конституционным Судом терминов «бизнес» и «экономическая деятельность», а также в отсутствии «содержательного начала» применительно к бизнесу. Приведем пример, где фиксировалась необходимость повышения эффективности деятельности российского механизма народовластия, минимизация возможности появления рисков, связанных со «сращиванием» власти и бизнеса (см. подробнее: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 сентября 2016 г. № 1742-О «По запросу груп- пы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности положений части 5 статьи 42 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»).
Однако объективность научного анализа требует признать, что федеральный орган конституционного контроля все же может применять термин «бизнес» в более формальном варианте, например:
– текстуально воспроизводить конкретное обращение, в частности, связанное с отсутствием различий в статусе процедуры банкротства применительно к формам (малый, средний, крупный) бизнеса (см. подробнее: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 1307-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Оскаревой Ольги Владимировны на нарушение ее конституционных прав отдельными положениями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»;
– констатировать наличие институтов (в частности, нотариата), имеющих целью минимизировать расходы субъектов малого, среднего бизнеса (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 сентября 2015 г. № 1838-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества «Юрэнерго» на нарушение конституционных прав и свобод положениями пунктов 5, 6 и 10 статьи 7.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») и пр.
Если понятие «бизнес» охарактеризовать с учетом приведенных выше актов президента России, актов федерального органа конституционного контроля, в которых он, в том числе, выделяет риски «сращивания» власти и бизнеса, то можно предположить, что эта категория охватывает даже более широкий круг общественных отношений по сравнению с экономической деятельностью.
Однако в доктрине гражданского права можно обнаружить и достаточно «узкий» подход к исследуемой категории. Так, по мнению некоторых авторов, «бизнес – это всегда юридически оформленный вид человеческой деятельности, который может осуществляться только в рамках одной из установленных законом форм хозяйствования». Соответственно, «субъектами бизнеса (бизнесменами) являются единоличные собственники капитала – физические лица, а также собственники и владельцы предприятий, выступающие как юри- дические лица. Деятельность субъектов бизнеса всегда определяется той правовой средой и культурой, которая создана в обществе» [14, с. 25].
Следует заметить, что подобного рода конкретные определения – достаточно редкое явление в цивилистике. Как правило, исследователи характеризуют это явление, что называется, «в целом». Однако и такой подход позволяет в ряде случаев констатировать: имеет место деятельность, которая не определена законодательством как экономическая (вспомним, что такой дефиниции нет), не охарактеризована как «иная экономическая» Конституционным Судом России применительно к конкретной ситуации. В этом плане нельзя исключить, что ученые, возможно, оправданно, характеризуют такого рода деятельность как «бизнес». Так, А.А. Иванов обращает внимание на следующий фактор: «в последнее время много говорится о новой форме бизнеса XXI в. – так называемых бизнес-агрегаторах: Gett, Uber, Airbnb и их аналогах. Есть они и в России. При всем разнообразии видов общее у них состоит в том, что они соединяют самостоятельных экономических агентов –- производителей и потребителей – посредством специальной инфраструктуры, обычно связанной с использованием сети Интернет. Это многократно усиливает и спрос, и предложение, в результате чего выявляется оптимальная цена, которая наиболее соответствует рыночным условиям. Причем нерыночные факторы, влияющие на цену (вмешательство государства, групповой эгоизм, региональные различия и т. п.), как правило, устраняются» [12, с. 145].
Второй пример, который мы полагаем возможным привести в статье, на наш взгляд, подчеркивает, что «бизнес» может пониматься не как вид деятельности, но как объединение, совокупность сил и средств. Как пишет, в частности, Ю.С. Буркова, необходимо совершенствовать базисные начала сотрудничества сообществ предпринимателей и органов власти, исключать любое «давление» на бизнес, ограничение свободы предпринимательства и т. п. [15, с. 20].
Впрочем, имеет место и другой подход, базирующийся на выделении «бизнес-сообществ», куда относят лишь «крупные» хозяйствующие субъекты [16, с. 30].
Для зарубежной цивилистической доктрины все же характерен «широкий» подход к бизнесу, понимание его как самой различной деятельности, в том числе и не связанной с получением прибыли [17]. Такая позиция достаточно часто поддерживается судебной практикой [18, с. 517]. Причем так называемая концепция «экономи- ческой целесообразности» в понимании бизнеса способствует максимально широкому подходу к его содержанию [5, с. 31].
Весьма распространенным в юридической литературе является подход, который также свидетельствует о том, что бизнес спорно отожествить с экономической деятельностью, равно как и, в силу распространенности термина, в который явно закладывается смысловое значение, – игнорировать.
Так, очень многие авторы утверждают, что «одной из серьезнейших международных проблем, существующих на стыке права и экономики, является проблема активного применения уголовного законодательства за экономические преступления. Зачастую это приводит к использованию данного средства для незаконного преследования бизнеса и передела права собственности во многих странах мира. При этом необходимость использования инструментов уголовного преследования в отношении преступлений в сфере экономики не подвергается сомнению. Однако избыточное уголовное преследование бизнеса ухудшает имидж экономики той страны, где такая проблема существует, что, в свою очередь, влечет за собой отток капитала и сокращение его притока из других стран» [13, с. 3].
Итак, можно согласиться с мнением той группы цивилистов, которые полагают, что бизнес имеет более «широкое наполнение» по сравнению с предпринимательской и экономической деятельностью [19, с. 100]. Исследователи отмечают, что законодатель фактически игнорирует категорию «бизнес», оперирует понятием «предпринимательская деятельность». Важно, что они категорически отрицают смысловую тождественность этих феноменов, обосновывая суждение, что бизнес включает в себя не только предпринимательство [19, с. 100].
Итак, мы предприняли попытку охарактеризовать соотношение таких категорий, как «предпринимательская деятельность», определение которой имеет место в гражданском законодательстве, «экономическая деятельность» и «бизнес».
Вопрос о соотношении первых двух категорий (без формирования, разумеется, дефиниций) фактически разрешен Конституционным Судом России, прежде всего, на основании ст. 34 Конституции. Что касается их соотношения с категорий «бизнес», то вопрос остается открытым. Многими авторами он игнорируется, и на первый взгляд логика их рассуждения представляется корректной: если законодатель не использовал этот термин (точнее, использовал, но применительно к конкретным ситуациям, подлежащим правовому регулированию), то его научная и практическая значимость носит спорный характер.
Однако обращение к актам федерального органа конституционного контроля и, главное, к актуальным актам президента России, принятым на рубеже 2016–2018 гг., свидетельствует о необходимости более активного подхода к разработке доктринальной и, в ближайшей перспективе, легальной дефиниции в отношении категории «бизнес».
На наш взгляд, имеются основания не только для констатации актуальности исследования вопроса о соотношении бизнеса и экономической деятельности, но и для закрепления такой категории (бизнес) в гражданском законодательстве, что обусловлено, в первую очередь, необходимостью исполнения актов президента России. В Послании Главы российского государства 2016 г., где термин «бизнес» использован более тринадцати раз, в указах 2017 г. бизнес не является синонимом экономической деятельности, но характеризуется как особая категория, обеспечивающая структурные изменения российской экономики.
Список литературы О новых подходах в цивилистике к соотношению понятий "бизнес-деятельность" (бизнес) и "экономическая деятельность"
- Разрешительная система в Российской Федерации: научно-практич. пособ.//Л.Ю. Акимов, Л.В. Андриченко, Е.А. Артемьева и др.; отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ: ИНФРА-М, 2015.
- Белякова А.В. Механизмы судебной и внесудебной защиты права на судопроизводство в разумный срок: монография. М.: Юстицинформ, 2016.
- Сборник научных статей III Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного права в России и за рубежом» (25 апреля 2016 года, г. Москва)//Е.А. Абросимова, В.К. Андреев, Л.В. Андреева и др.; под общ. ред. С.Д. Могилевского, М.А. Егоровой. М., 2016.
- Алистархов В. Аннулирование трудового договора как способ не выплачивать зарплату//Трудовое право. 2016. № 5. С. 59-68.
- Демиева А.Г. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. М.: Статут, 2016.
- Звездина Т.М. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в России. Государственное и договорное регулирование предпринимательской деятельности: коллективная монография/под науч. ред. проф. В.С. Белых. М.: Проспект, 2015.
- Государство и бизнес в системе правовых координат//В.Р. Авхадеев, С.Б. Бальхаева, Ю.В. Боброва и др.; отв. ред. А.В. Габов. М.: ИзиСП: ИНФРА-М, 2014.
- Предпринимательское право: Правовое сопровождение бизнеса: учебник для магистров/Р.Н. Аганина, В.К. Андреев, Л.В. Андреева и др.; отв. ред. И.В. Ершова. М.: Проспект, 2017.
- Ершова Е.А. Гудвилл бизнеса. М.: Статут, 2013.
- Спесивов В. Новые стимулы для малого бизнеса//ЭЖ-Юрист. 2017. № 25. С. 6.
- Сироткина Т.А., Пепеляев С.Г. Опыт России и ОЭСР в стимулировании экологичного бизнеса//Закон. 2017. № 5. С. 57-66.
- Иванов А.А. Бизнес-агрегаторы и право//Закон. 2017. № 5. С. 145-156.
- Ахтырко Д. Верховенство права для бизнес-среды. Международно-правовой аспект//ЭЖ-Юрист. 2017. № 17-18. С. 3.
- Грунтовский И.И. Правовая среда общества как основа безопасности бизнеса//Безопасность бизнеса. 2017. № 3. С. 20-25.
- Буркова Ю.С. Взаимодействие органов публичной власти и предпринимательских сообществ: современный опыт//Безопасность бизнеса. 2017. № 1. С. 20-24.
- Нуртдинова А.Ф. Социальная ответственность бизнеса: правовые аспекты экономической концепции//Журнал российского права. 2015. № 1. С. 30-46.
- Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или неправомерного использования (в сфере коммерческих отношений): научно-практич. пособ./Д.В. Афанасьев, А.С. Ворожевич, М.Е. Глазкова и др.; под общ. ред. М.А. Рожковой. М: Статут, 2015.
- See the Meaning of «Enterprise», «Business» and «Business Profits» Under Tax Treaties and EU Tax Low. Guglielmo Maisto, IBFD. 2011. P. 517-518.
- Киракосян С.А., Тахтенкова А.О. О проблемах правового регулирования российского «домашнего бизнеса»//Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 10. С. 100-104.