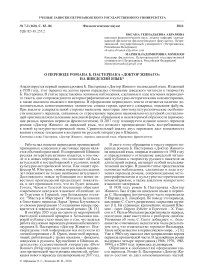О переводе романа Б. Пастернака "Доктор Живаго" на шведский язык
Автор: Абрамова Оксана Геннадьевна, Хоменко Мария Владимировна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 7 (160) т.2, 2016 года.
Бесплатный доступ
Анализируется первый перевод романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» на шведский язык. Изданный в 1958 году, этот перевод на долгое время определил отношение шведского читателя к творчеству Б. Пастернака. В статье представлены основные наблюдения, сделанные в ходе изучения переводного текста, они сопровождаются историографическими и культурно-историческими комментариями, а также анализом языкового материала. В оформлении переводного текста отмечается наличие дополнительных композиционных элементов: списка героев, краткого словарика, описания фабулы. При анализе содержательной стороны выявлены некоторые лингвокультурологические особенности шведского перевода, связанные со стремлением передачи национально-культурной составляющей оригинала (использование вежливой формы обращения) и неповторимой образности (применение разных приемов перевода фразеологизмов). В 2017 году планируется издание нового перевода романа «Доктор Живаго» на шведский язык, что позволит произведению быть востребованным в новой культурно-исторической эпохе. Сравнительный анализ двух переводов даст возможность выявить новые тенденции в восприятии русской литературы в Швеции.
Пастернак, "доктор живаго", перевод, шведский язык, обращение, фразеологизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14751112
IDR: 14751112 | УДК: 82+81.255.2
Текст научной статьи О переводе романа Б. Пастернака "Доктор Живаго" на шведский язык
Работа над новыми переводами произведений признанных классиков в настоящее время является обычной практикой. В современной Швеции русская литература активно издается, в том числе и в новых переводах, что позволяет ей быть актуальной и востребованной в условиях новой культурно-исторической эпохи. Как пишет профессор М. Юнггрен, «новые переводы последних лет охватывают не только неизменно актуального Достоевского: новые публикации его менее известных произведений продолжают появляться, и нет признаков того, что их будет меньше. Гоголь, Чехов и Толстой постепенно обретают современное шведское языковое облачение, но не Тургенев и Горький, они безнадежно отстают. “Мастер и Маргарита” Михаила Булгакова в блестящем переводе Ларса Эрика Блумквиста со своими рекордными 15 изданиями вскоре превратится в шведский культовый роман» [8: 15].
В октябре 2015 года на одном из мероприятий ежегодной книжной ярмарки в Хельсинки широкой публике стало известно о том, что ведется работа над новым переводом романа нобелевского лауреата Б. Пастернака «Доктор Живаго». Подтверждение этой информации мы получили из личной переписки с Я. Орлов, известной переводчицей, работающей с тремя языками – финским, шведским и русским. Крупнейшее в Швеции издательство художественной литературы Albert Bonniers förlag поручило заняться новым переводом прозаической части романа именно ей, публикация нового перевода запланирована на 2017 год.
В свете этого обращение к тексту первого перевода романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» на шведский язык, впервые изданного в 1958 году и определившего отношение шведской читающей публики к творчеству русского писателя на длительный период, вызывает особый исследовательский интерес. В данной статье представлены основные наблюдения, сделанные в ходе изучения перевода романа, сопровождаемые историографическими и культурно-историческими комментариями, а также анализом конкретного языкового материала.
В 1958 году роман Б. Пастернака «Доктор Живаго» был издан на шведском языке в переводе С. Вальмарка (поэтическую часть переводили Р. Парланд и Л. Линдберг). По поводу это перевода, как пишет С. Скотт, разразилась «серьезная шумиха» [11]. На страницах крупнейших изданий Швеции – газет Dagens Nyheter и Expressen – Х. Ульс-сон и Г. Йельм-Мильжин раскритиковали перевод, последняя даже выступила с разбором ошибок. Упоминая об этом, С. Скотт добавляет: «…боль-шинство отмеченных недостатков были результатом того, что издательство торопило Вальмарка. Такое небезызвестно в переводческом мире…» [11]. Уже в 1960 году вышла в свет исправленная версия перевода прозаической части. В дальнейшем роман выдержал четыре переиздания (1966, 1970, 1985, 1994), а в 2004 году появилась аудиоверсия.
Обратимся к особенностям оформления текста перевода. Роман Б. Пастернака «Доктор Живаго» состоит из двух композиционных частей:
прозаической и поэтической. Последняя представлена циклом, состоящим из 25 стихотворений. Прозаическая часть делится на «Первую книгу» и «Вторую книгу», это деление отсутствует в шведском варианте. Внутреннее деление на озаглавленные части и пронумерованные главы без названий в переводе полностью соблюдено.
Текст романа в шведском переводе предваряют дополнительные композиционные элементы. Во-первых, это список основных героев, в котором указаны фамилии, имена и иногда отчества, род занятий, а также степень родства или важные данные, определяющие роль персонажа. Очевидно, что переводчик прибегает к такому дополнению не только в связи с разветвленной системой персонажей, но и ввиду сложности восприятия для шведского читателя русских имен. Отметим, что первая англоязычная версия романа, изданная в том же 1958 году в переводе М. Хэйуорда и М. Хэрэри, также сопровождается списком героев. И. А. Суханова комментирует это так: «Как известно, система именования людей в разных языках принципиально различна, и та стилистическая окраска, с которой употребляются, например, диминутивы личных имен, в разных языках не совпадает. Заботясь о читателе, переводчики приводят перед началом романа список основных действующих лиц с разными вариантами именований, чтобы избежать путаницы ( “to prevent confusion” ), поскольку русские имеют обыкновение, кроме фамилий (surnames), обращаться друг к другу по имени-отчеству (name and patronymic) и уменьшительными именами (diminutives)» [5: 370–371].
Проблема передачи имен персонажей романа «Доктор Живаго» в переводе на шведский язык требует детального рассмотрения в рамках отдельного исследования. Так, например, с первого взгляда кажется неоправданным, что имя Павла, чернорабочего и сторожа из книгоиздательства, передается на шведском как Paul , в то время как другой герой с таким же именем (Павел Антипов) представлен как Pavel . Вероятно, таким образом переводчик хотел указать на разницу в общественном положении этих двух персонажей и развести их в читательском сознании.
Вторым дополнительным композиционным элементом является краткий словарик с объяснением следующих слов: атаман, былины, опричник, верста, десятина, пуд. Так как данные лексемы вышли из активного употребления, современный читатель нуждается в дополнительной справочной информации. Для иностранного читателя такого рода пояснение является просто необходимым.
После основного текста дается краткое содержание романа со следующим примечанием: некоторые противоречащие данные о времени происходящих событий указывают на то, что изначально план повествования мог быть иным [10: 567]. Этот элемент также важен с прагматической точки зрения – он представляет фабулу, облегчая таким образом читателю проникновение в художественную ткань произведения.
От формы перейдем к содержанию. В рамках данной публикации мы не имеем возможности описать весь комплекс содержательной стороны переводного текста (а это информация смыслового, стилистического, эмоционально-экспрессивного, эстетического характера и др.), поэтому сфокусируем внимание на некоторых лингвокультурологических особенностях перевода романа «Доктор Живаго» на шведский язык с оглядкой на такой феномен, как «эквивалентность при существовании различий» (Р. Якобсон). Такой подход находится в русле современного переводо-ведения [1: 13–14] и позволяет нам представить материал в концентрированном виде.
Если рассматривать художественное произведение в качестве «посредника» при взаимодействии культур [4: 7], то лингвокультурологический аспект перевода выдвигается на передний план. Образные эмблемы культуры, представленные традициями обращения и именования людей, фразеологизмами, становятся важными объектами исследования, позволяющими выявить национально-культурную специфику восприятия инокультурного художественного текста.
Одной из ярких лингвокультурологических особенностей первого перевода романа «Доктор Живаго» на шведский язык является употребление личного местоимения ni («вы»; падежная форма er ) при обращении к одной персоне. Приведем пример:
Оригинал [3: 12]
– Гроза надвигается. Надо собираться.
– И не думайте. Не пущу. Сейчас будем чай пить.
Перевод [10: 12]
– Det blir åska. Jag får se till att komma i väg.
– Det ska ni inte tänka på en gång. Jag släpper inte i väg er . Nu ska vi strax dricka te.
В современном шведском языке использование местоимения ni в единственном числе наблюдается лишь в ограниченном наборе коммуникативных ситуаций, например для подчеркнуто уважительного обращения; в большинстве же случаев, в том числе в ситуации официально-делового общения, используется местоимение du («ты»; падежная форма dig ). Напомним, что работа над переводом романа велась С. Вальмарком в конце 1950-х годов, в то время маркированное ni , подчеркивающее дистанцию между говорящими, еще активно использовалось для обращения в единственном числе. Так называемая du-reformen («ты-реформа»), «когда du стало стандартным обращением даже в формальном и официальном контекстах» [2: 57], была проведена в конце 1960-х годов. Как пишет Л. Мелин, в современном шведском языке наблюдается тенденция к диалогизации, вместе с этим местоимение ni в обращении к одной персоне звучит как «несколько устаревшее, несколько неестественное, безличное и – в восприятии людей старшего поколения – снисходительное» [9]. В этой связи актуальным оказывается вопрос, как проблема выбора местоименных обращений будет решена в новом переводе романа «Доктор Живаго» на шведский язык.
Помимо обращения на «вы» до конца 1960-х – начала 1970-х годов в шведском языке было широко распространено использование титулов, профессий и обращений herr (господин), fru (госпожа; fröken – в обращении к незамужней даме), как правило, в сочетании с фамилией. В переводе С. Вальмарка эта традиция находит свое отражение в ряде эпизодов, позволяя применять равнозначные с позиций адекватного перевода единицы. Приведем пример:
Оригинал [3: 251]
<…> Сейчас страшный суд на земле, милостивый государь <…>
Перевод [10: 260]
<…> Men nu härskar den yttersta domen på jorden, min bästa herre <…>
В России до революции 1917 года в устной и письменной практике было принято использовать вежливую форму официального обращения «милостивый государь» или «милостивая государыня». В переводе на шведский язык мы наблюдаем прием культурной адаптации, переводчик использует более близкое переводящему языку сочетание min bästa herre (дословно: «мой лучший господин»).
Одной из наиболее сложных переводческих проблем, связанных с попыткой сохранить исходную образность художественного произведения и национальный колорит, является перевод фразеологизмов. Порой неправильное восприятие фразеологизма может привести к искаженному понимаю текста, поэтому переводчик должен обладать не только глубокими знаниями языка и культуры, но и языковым чутьем.
Фразеологизмы представляют особый тип сочетаний, значения которых находятся во вне-положенности по отношению к составляющим компонентам. В них отражаются национальнокультурные представления, которые могут частично или полностью совпадать или совершенно отличаться у разных народов. Существует три основных приема перевода фразеологизмов с одного языка на другой: подбор полного эквивалента (совпадение по смыслу, образности, компонентному составу и грамматической структуре); подбор в языке перевода фразеологизма, имеющего схожее значение; нефразеологический перевод, то есть объяснение значения фразеологизма с помощью свободного словосочетания. В своем переводе романа «Доктор Живаго» С. Вальмарк использует разные приемы, стараясь передать образность оригинального текста. Приведем примеры.
Оригинал [3: 252]
<…> Да, [оберегайте] как зеницу ока , лично будете отвечать передо мной.
Перевод [10: 260]
-
< …> Ja, som en ögonsten , ni ansvarar personligen inför mig.
Выражение «беречь как зеницу ока» означает «с трепетом, с заботой оберегать что-то или стараться это сохранить» [6: 725]. В шведском языке есть полное соответствие в виде композита ögonsten, которое сейчас употребляется исключительно в переносном смысле и обозначает «зеница ока, сокровище». На первый взгляд, нет совпа- дения грамматических форм: «зеница ока» – это субстантивное словосочетание, а в шведском варианте используется лишь одна лексема. Однако следует отметить, что это композит (ögon – «глаза», sten – «камень»), обладающий одновременно семантической емкостью и выразительной краткостью. В данном случае мы можем говорить о том, что переводчик прибегнул к подбору полного эквивалента.
Следующий пример демонстрирует использование двух приемов – описательный перевод (объяснение) и прием культурной адаптации, то есть подбора сходного по значению фразеологизма.
Оригинал [3: 9]
-
< …> и одно время в Москве можно было крикнуть извозчику: «К Живаго!», совершенно как « к черту на кулички! », и он уносил вас на санках в тридесятое царство, в тридевятое государство .
Перевод [10: 9]
-
< …> det var en tid i Moskva, då man kunde skrika «Till Zjivago!» åt kusken alldeles som man skrek « Dra så långt vägen räcker! », och då förde han en i släden till landet östan om sol och västan om måne .
«К черту (к чертям) на кулички» или «у черта на куличках» употребляется для обозначения «очень отдаленных мест» [6: 529]. Данное выражение используется в современном русском языке и по сей день. В шведском языке отсутствует подобное выражение, переводчик использует описательную конструкцию: «[Поезжай] так далеко, насколько дороги хватит!» Однако стоит отметить, что у выражения dra så långt vägen räcker есть синоним dra dit pepparn växer (дословно: «иди туда, где перец растет»), что означает «пошел (убирайся) к черту!».
Выражение «в тридесятое царство, в тридевятое государство» составлено из двух отдельных фраз, обычно встречающихся в русских сказках: «за тридевять земель (отсюда)» и «тридесятое царство, государство». Первая означает «в очень отдаленной стране, очень далеко», вторая – «очень отдаленная страна, земля» [7: 535]. В шведском варианте это выражение переведено как [till] lan-det östan om sol och västan om måne (дословно: «[в] страну на восток от солнца и на запад от луны»). Шведский фразеологизм так же используется в сказках для описания волшебной страны, расположенной очень далеко. Таким образом в переводе сохраняется не только смысл фразеологизма, но и очерчивается специфическая сфера его употребления, что позволяет сохранить эффект воздействия на читателя.
Перевод художественного произведения – это всегда поиск компромисса между языковой точностью и оригинальной образностью. Он может как нести на себе отпечаток времени, в которое он создавался, так и отражать специфические черты идиостиля переводчика. Последнее, в свою очередь, является одной из наиболее обсуждаемых проблем теории перевода последних десятилетий. Изучение истории перевода романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» на другие языки, анализ переводческих решений и компромиссов – это одновременно попытка увидеть классическое произведение русской литературы сквозь призму инокультурного восприятия и возможность оценить потребности принимающей культуры. Так, например, с выходом в свет нового перевода романа на шведский язык появится возможность провести сравнительный анализ переводов разных культурно-исторических эпох, что позволит выявить новые тенденции в прочтении и восприятии русской литературы шведским читателем.
* Статья подготовлена в рамках реализации комплекса мероприятий Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг. Подпроект «Scandica: культурные конвергенции».
TRANSLATION OF BORIS PASTERNAK’S NOVEL “DOCTOR ZHIVAGO” INTO SWEDISH
Список литературы О переводе романа Б. Пастернака "Доктор Живаго" на шведский язык
- Баринова И. А., Нестерова Н. М. Отношение «оригинал/перевод» как один из «вечных» вопросов в теории и практике перевода//Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова. 2009. № 4. С. 11-19.
- Линевич Н. Ю. Местоименные обращения в шведском и английском языках//Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. 2009. № 2. С. 54-58.
- Пастернак Б. Л. Собрание сочинений: В 5 т./Редкол.: А. А. Вознесенский и др. Т. 3. Доктор Живаго/Подгот. текста и коммент. В. М. Борисова, Е. Б. Пастернака. М.: Художественная литература, 1990. 734 с.
- Сойни Е. Г. Русская поэзия первой половины XX века и Финляндия. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2011. 114 с.
- Суханова И. А. Способы передачи имен персонажей в английском переводе романа Б. Пастернака «Доктор Живаго»//Ономастика Поволжья: Материалы XIII международной научной конференции (Ярославль, 13-14 сент. 2012 г.)/Под отв. ред. Р. В. Разумова, В. И. Супруна. Ярославль: Изд-во ЯГПу, 2012. С. 370-375.
- Фразеологический словарь современного русского литературного языка: более 35 000 фразеол. единиц/Под ред. А. Н. Тихонова; Сост. А. В. Королькова, А. Г. Ломов, А. Н. Тихонов. М.: Флинта: Наука, 2004. Т. 1: (А-П). 832 с.
- Фразеологический словарь современного русского литературного языка: более 35 000 фразеол. единиц/Под ред. А. Н. Тихонова; Сост. А. В. Королькова, А. Г. Ломов, А. Н. Тихонов. М.: Флинта: Наука, 2004. Т. 2: (П-Я). 832 с.
- Ljunggren M. När den ryska litteraturen blev svensk//Svenska Dagbladet. 2013. 16 februari.
- Melin L. Du-reformen som blev en jag-revolution//Spräktidningen. Available at: http://spraktidningen.se/artiklar/2007/10/du-reformen-som-blev-en-jag-revolution (accessed 01.06.2016).
- Pasternak B. Doktor Zjivago. Stockholm: Aldus/Bonniers, 1970. 576 s.
- Skott S. Sven Vallmark//Svenskt översättarlexikon. Available at: http: www.oversattarlexikon.se/artiklar/Sven_Vallmark (accessed 01.06.2016).