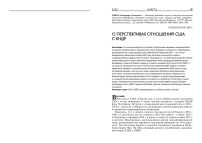О перспективах отношений США с КНДР
Бесплатный доступ
В статье анализируются состояние и перспективы американо-северокорейских отношений в период второго президентского срока Д.Трампа в контексте его неоднократных высказываний как в ходе президентской избирательной кампании 2024 г., так и после возвращения в Белый дом в январе 2025 года, об умении лучше других «ладить» с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Показывается, что практические действия Трампа после возвращения к власти фактически продолжают линию предыдущей администрации Дж.Байдена и самого Д.Трампа в период его первого президентского срока (2016–2929 гг.) по оказанию максимального военно-политического давления КНДР. Однако в условиях радикальных перемен в геополитической обстановке, закрепления КНДР своего статуса как ядерной державы в конституции страны продолжать добиваться денуклеаризации этой страны, по мнению все большего числа американских экспертов, нереалистично. Администрации Трампа советуют вместо этого перейти к контролю над вооружениями и снижению рисков развязывания ядерного конфликта на Корейском полуострове. Сделан вывод о маловероятности достижения до конца срока второй администрации Д.Трампа договоренностей с КНДР по ядерной проблеме и другим ключевым вопросам двусторонних отношений.
США, КНДР, денуклеаризация, отношения, диалог, санкции
Короткий адрес: https://sciup.org/170210962
IDR: 170210962 | DOI: 10.56700/b7539-7201-9976-x
Текст научной статьи О перспективах отношений США с КНДР
Президент США Д.Трамп еще в ходе избирательной кампании 2024 г. не раз напоминал о своих личных контактах с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встречи с северокорейским руководителем в 2018— 2019 гг., показали, утверждал он, возможность достичь реальных перемен в американо-северокорейских отношениях.
Напомню, что в период первого президентства Д.Трампа (2016— 2020 гг.) состоялись два его саммита с Ким Чен Ыном — в июне 2018 г. в Сингапуре и в феврале 2019 г. в Ханое, а также их встреча в июне 2019 г. в местечке Пханмунчжом, расположенном внутри демилитаризованной зоны, разделяющей два корейских государства примерно по 38-й параллели. Эта последняя прошла с участием тогдашнего президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, который активно способствовал налаживанию дилога США с КНДР.
В тот период некоторые американские эксперты, поддерживавшие т.н. «дипломатию саммитов» Трампа с целью снятия американских озабоченностей по поводу ракетно-ядерных программ КНДР, пробрасывали идею о возможности включения КНДР вместе с Республикой Корея (РК) в возглавляемую США будущую систему безопасности, охватывающую как Северную, так и Южную Корею (в случае, если Пхеньян примет американский сценарий денуклеаризации). Это позволило бы США установить контроль над Корейским полуостровом — уникальным по стратегическому значению регионом Северо-Восточной Азии, который расположен на стыке границ России и Китая. Предполагалось, что в этом случае США выступят гарантом безопасности всего Корейского полуострова — не только Южной, но и Северной Кореи223.
Ставка американцами делалась на то, что хотя КНДР и КНР в 2018 г. заметно улучшили двусторонние отношения, Пхеньян, тем не менее, якобы воспринимал подъем Китая как потенциально угрожающий его собственной внешнеполитической автономии и политической независимости224. Следовательно, делали вывод американские стратеги, Северная Корея может быть более восприимчива к идее предложенной Вашингтоном конфигурации сил в регионе. Такая комбинация вполне укладывалась в общий замысел по «сдерживанию» и «окружению» Китая.
Неоправдавшиеся расчеты США
Согласно выкладкам некоторых американских аналитиков, в числе задач будущего трехстороннего партнерства (США, РК и КНДР) в области безопасности будут: во-первых, «предотвратить китайское господство над Корейским полуостровом», чтобы позволить Северной и Южной Корее самим определять свое собственное будущее, по отдельности или вместе; во-вторых, предотвратить более широкую китайскую стратегическую угрозу Азиатско-Тихоокеанскому региону и, в-третьих, позволить Японии чувствовать себя более комфортно в обстановке межкорейской разрядки, чтобы предотвратить возрождение национализма и милитаризма в этой стране, которые якобы неизбежны в случае объединения Кореи225. Надежды на воссоединение двух частей полуострова вновь возродились в тот период в связи с проведением в 2018 г. трех межкорейских саммитов.
Для достижения этой цели был предложен простой и, казалось бы, короткий путь. В течение первых двух лет своего президентства (2016—
2017 гг.) Трамп пытался за счет политики «максимального давления» всячески изолировать и ослабить КНДР, а затем предложил этой стране «гарантии безопасности», добавив в качестве пряника «процветание», красочно представленное на видеодиске, который он передал северокорейскому лидеру. В рамках такой «большой сделки» в нужном американцам ключе решалась бы и ядерная проблема КНДР.
Однако поездки Ким Чен Ына в Китай накануне и после проведения им саммитов с США и Южной Кореей в 2018—2019 гг. показали, что Пхеньян, хотя и не прочь улучшить отношения с Вашингтоном, не хотел класть все яйца в одну корзину. Северная Корея была готова поступиться лишь частью, хотя и весьма существенной, своей ядерной программы (комплексом в Ненбене) в обмен на частичную отмену санкций, прежде всего тех, которые мешали развитию экономики и внешней торгогвли.
К тому же в КНДР, конечно, не могли не обратить внимание на то, что как раз в тот же период США открыто взяли курс на свержение законно избранного президента в Венесуэле. Там Вашингтон стал напрямую назначать нужную ему фигуру главой другого суверенного государства и передавать ему финансовые ресурсы, принадлежащие законному правительству. В Пхеньяне вряд ли были сомнения насчет того, что подобные технологии смены неугодного режима, опробованные в Венесуэле, будут использованы Соединенными Штатами не только в Латинской Америке.
Вместе с тем говорить о полной безрезультативности американо-северокорейских контактов и переговоров 2018—2019 гг. нет оснований. Впервые в истории отношений двух стран были реализованы полномасштабные встречи на высшем уровне и подписаны (на первом саммите в 2018 г. в Сингапуре) совместные документы.
Еще в период подготовки Сингапурского саммита КНДР заявила, что у неё больше нет необходимости проводить новые ядерные испытания. Судя по всему, эта позиция, подтвержденная в Сингапуре, и была представлена Трампом миру как «обещание» Пхеньяна воздержаться от дальнейших испытаний ЯО. КНДР не делает этого до сих пор, хотя и возобновила пуски МБР, от чего она воздерживалась до конца первого президентского срока Трампа, но возобновила их при Байдене.
Трамп 2.0: повторение пройденного
Политика Трампа в отношении КНДР продолжает оставаться крайне противоречивой и непоследовательной. Реалистические оценки о том, что КНДР стала «ядерной державой», прозвучавшие из уст самого Трампа и министра обороны П. Хегсета, делаются при сохранении всего арсенала политики «максимального давления», использованной Трампом в период его первого срока и унаследованной Дж. Байденом.
Для понимания такой «преемственности» важно не забывать, что с приходом очередной администрации, будь она республиканской или демократической, фундаментальные цели внешней политики США не меняются. Изменяются лишь методы и стиль достижения этих целей.
Задачей номер один является обеспечение мирового господства США. В отличие от россиян, все еще склонных посыпать головы пеплом за несбывшуюся (и нигде четко так и не зафиксированную) мечту о «всемирной победе коммунизма», США еще в 2002 г. в своей стратегии национальной безопасности не постеснялись обозначить в числе главных задач не допустить появления на земле силы, способной бросить вызов их гегемонии в мире226. И до сих пор эти приоритеты менять не собираются.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе, недавно расширенном Вашингтоном до Индо-Тихоокеанского, приоритетом США объявлено сохранение их военного присутствия и укрепление существующих со времен Корейской войны военно-политических альянсов с Японией и Южной Кореей. Предпринимаются попытки создания новых стратегических альянсов типа QUAD (четырехсторонний диалог по безопасности, в который входят Австралия, Индия, Япония и США), AUKUS (трехсторонний оборонительный альянс в составе: Австралия, Англия, США), имеющих пока что в основном антикитайскую направленность.
Что же касается ядерной проблемы Корейского полуострова, один из самых известных американских экспертов по Корее Виктор Ча, работавший в администрации Дж. Буша, разъяснял, что главная задача США на полуострове — не денуклеаризация, а появление «единой Кореи, которая станет глобальным партнером США в мировых делах»227. В переложении на общепонятный язык, фактически речь идет о ликвидации КНДР и создании на Корейском полуострове единого государства, призванного помогать США менять неугодные им режимы и участвовать в других проводимых ими «полицейских» операциях по всему миру.
Главным инструментом указанной политики остаются, наряду с односторонними (и потому с точки зрения международного права нелегитимными) санкциями США и их союзников, введенные СБ ООН еще в 2016—2017 гг. (с одобрения РФ и КНР) беспрецедентно жесткие санкции, блокирующие практически всю внешнюю торговлю, международные расчеты и внешнеэкномическое сотрудничество КНДР.
Указанные ограничения пополняются все новыми односторонними санкциями США и их союзников, в том числе т.н. «вторичными санкциями» против компаний и физических лиц третьих стран (включая Россию), уличенных или даже просто подозреваемых американцами в нарушении как санкций ООН, так и односторонних мер США в отношении КНДР.
Отчаянные усилия США и их союзников, предпринятые в 2024 г., добиться продления Советом Безопасности ООН работы группы экспертов Комитета 1718, созданной для мониторинга санкций в отношении КНДР, — еще одно доказательство того, что США по-прежнему хотели бы разговаривать с КНДР «с позиции силы».
В последние пару лет эта группа стала все активнее использоваться США и их союзниками для оказания давления не только на КНДР, но и на Россию по вопросу о поставках северокорейских вооружений и боеприпасов в обмен на якобы имеющее место предоставление КНДР российских военных технологий.
Не добившись из-за вето России в марте 2024 г. продления работы группы экспертов комитета 1718 под эгидой ООН, США и еще 10 стран (главным образом союзников США, воевавших на стороне Южной Кореи в период Корейской войны 1950—1953 гг.) организовали т. н. «Многостороннюю группу по мониторингу санкций» в отношении КНДР. Эта абсолютно нелегитимная структура 27 мая 2025 г. опубликовала свой первый 29-страничный доклад, содержащий обвинения в адрес России и КНДР в нарушениях резолюций СБ ООН228.
В КНДР оперативно и жестко отреагировали на новую попытку посягательства на свой суверенитет. Напомнив, что указанная группа «не имеет никаких законных оснований для своего существования», представитель МИД КНДР назвал публикацию доклада «политической провокацией» и «грубым нарушением принципов международного права»229.
В Пхеньяне отметили, что т.н. «Многосторонняя группа мониторинга» созданная «И странами, враждебно настроенными по отношению к КНДР и РФ, является политическим инструментом, последовательно действующим в пользу геополитических интересов Запада230. Там подчеркнули, что «военное сотрудничество между КНДР и РФ, нацеленное на защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государств, на гарантию мира и стабильности в Евразийском регионе, является применением законных суверенных прав, соответствующих статье 51 Устава ООН, определяющей: «Любое государство имеет право на индивидуальную или коллективную самооборону», и статье 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ об оказании военной и иной помощи в случае, когда одна из сторон подвергнется вооруженному нападению»231.
Другим важным направлением давления на КНДР продолжает оставаться предпринимаемые США и их союзниками на различных международных форумах попытки добиться международной изоляции КНДР, ее стигматизации и демонизацию в глазах мировой общественности.
Очередная попытка на этот счет была предпринята на Международной конференции по безопасности, прошедшей в феврале 2025 г. в Мюнхене, где госсекретарь США М. Рубио и главы внешнеполитических ведомств Японии и РК опубликовали совместное заявление, которое, по мнению МИД КНДР, было «пропитано безосновательными клеветническими нападками и провокационной риторикой» против КНДР»232.
КНДР до сих пор остается в списке стран-спонсоров терроризма, куда она была внесена еще в период первого президентства Д. Трампа в 2017 году233.
В последние годы одним из главных направлений политики США в отношении КНДР стало усиление давления на эту страну по вопросу соблюдения прав человека. Воспользовавшись своим очередным председательством в СБ ООН, США, несмотря на возражения России и КНР, в августе 2023 г. внесли вопрос о правах человека в КНДР на рассмотрение этого органа. Предыдущий раз совет обсуждал этот вопрос в 2017 году.
Для обоснования своей позиции Вашингтон избрал новую тактику: пытаясь доказать, что именно нарушения прав человека, в частности, якобы «принудительный труд» и получаемые от него доходы, помогают Пхеньяну совершенствовать его ракетно-ядерный арсенал234.
Одним из последних примеров непоследовательности Вашингтона в корейской политике стало включение КНДР в 2025 г. в список 19 стран, гражданам которых запрещен въезд в США. Однако спустя несколько дней у американцев появился новый список, в котором было включено 12 стран мира, но КНДР, к удивлению многих обозревателей, в нем не оказалось.
В Пхеньяне в связи с этим заметили, что КНДР не интересует, включена ли она или нет в подобные списки, и в свою очередь заявили, что Пхеньян «наверное, и впредь, как в прошлом, не будет приветствовать въезд американцев в нашу страну»235.
США вновь продлили на год запрет для граждан США посещать КНДР (действует уже 9-й год), что давно уже вызывает критику различных американских благотворительных организаций, желающих оказывать гуманитарную помощь КНДР
КНДР: угрозы и диалог несовместимы
Наибольшую тревогу в Пхеньяне вызывает наращивание военного присутствия США в районе Корейского полуострова, заходы американских атомных авианосцев и подводных лодок в южнокорейские порты, прилеты американских стратегических бомбардировщиков, которые обычно приурочиваются к проведению разного рода совместных военных учений США и Южной Кореи.
В соответствии с решениями первого в истории трехстороннего саммита США—Япония—Южная Корея 18 августа 2023 г. в Кэмп-Дэвиде, в некоторых из таких учений с 2024 г. стали принимать участие японские «силы самообороны».
Анализируя военную активновсть США и их союзников в регионе, в Пхеньяне приходят к выводу, что «после прихода к власти администрации Трампа более усиливаются военные провокации США и их сателлитов, угрожающие обстановке безопасности в КНДР»236.
Осуждая усиление военных приготовления США и их союзников у границ республики, 3 марта 2025 г. заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чен (сестра Ким Чен Ына) опубликовала заявление, в котором привлекается внимание к тому, что «США не прекращают провокационные акты, которые игнорируют озабоченность КНДР в сфере безопасности и обостряют обстановку». Подобная активность, указала она, «лишь подчеркивает актуальность укрепления наших самозащитных ядерных сил сдерживания войны», тем самым в очередной раз дав ясно понять США, что в таких условиях о каком-то «ядерном разоружении» КНДР не может быть и речи237.
В такой обстановке КНДР заметно активизировала собственные оборонительные усилия. К наиболее значимым событиям последних лет, помимо запуска в 2023 г. ИСЗ, можно отнести пуски МБР на твердом топливе, различных ракет меньшей и средней дальности, в том числе гиперзвуковых, а также крылатых ракет морского базирования. Были также проведены пуски баллистических ракет с подвижных железнодорожных платформ и испытания подводных дронов, могущих нести ядерный заряд. В 2025 г. особое внимание уделяется укреплению военно-морского флота КНДР. С начала года на воду спущены два новейших эсминца водоизмещением 5 тыс. тонн каждый.
Предпринимаемые КНДР меры по укреплению своей обороноспособности довольно умело используются США в качестве пугала для вовлечения своих союзников в Восточной Азии — Республики Корея и Японии — в реализацию глобальной стратегии сдерживания не только Китая, но и России. Одним из заметных шагов в этом направлении стало де-факто создание трехстороннего военного блока США—Япония—Республика Корея на упомянутой выше встрече руководителей этих трех стран в Кэмп-Дэвиде в 2023 году. Как показало развитие событий после этого саммита, количество и масштабы совместных маневров участников этого альянса в предстоящие годы будет только нарастать238.
«В какой-то степени американцы используют нынешнюю ситуацию на Корейском полуострове в качестве предлога для того, чтобы еще больше закрепиться здесь в контексте своей политики двойного сдерживания России и Китая», — заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. «Чем больше будет напряженность, которую они во многом сами и провоцируют своими действиями, тем больше потребность их стран-союзников в присутствии американских вооруженных сил и в наличии военных гарантий», — отметил он239.
Российский дипломат пояснил, что резкое обострение ситуации на полуострове вызвано в первую очередь наращиванием в регионе американского военного присутствия, интенсификацией военных маневров, в том числе с участием союзников США. «Это все очень опасно, поскольку возрастает угроза непреднамеренных действий, человеческой ошибки. К сожалению, это может привести к необратимым последствиям», — подытожил Руденко240.
В КНДР, как следует из официальных заявлений, хорошо понимают подлинные цели США по созданию новых блоковых структур в регионе: «под предлогом чьей-то “угрозы” превратить систему военного альянса с приспешниками во всеобъемлющий стратегический союз и тем самым добиться силового превосходства в АТР»241.
В создавшихся условиях в КНДР совершенно не заинтересованы в переговорах, на которых главными темами, по мнению США, должны стать денуклеаризация и правах человека. Северокорейцы еще в сентябре 2022 г. приняли Закон о политике в отношении ядерных вооруженных сил, закрепивший ядерный статус КНДР, и заявили, что он «необратим» и они намерены добиваться его международного признания242.
В целом возобновление американо-северокорейских контактов не исключается. Достаточно вспомнить ситуацию 2017 г., когда лидеры США и КНДР мерялись размерами своих «ядерных кнопок», грозя уничтожить друг друга, а несколько месяцев спустя перешли к личным встречам и обмену письмами, которые Д.Трамп назвал «любовными».
В этом контексте обратило на себя внимание то, что представитель МИД КНДР в своем заявлении, распространенном 23 июня 2025 г. северокорейским официальным агентством ЦТАК, указав, что КНДР «решительно осуждает военную атаку США на Иран», вместе с тем не упомянул, что речь идет о бомбежке объектов ядерной инфраструктуры этой страны243.
Однако на данном этапе позиция КНДР, настаивающей на отказе США от «враждебной политики» в отношении КНДР, вряд ли может быть приемлема для администрации Трампа. Пхеньян наставивает на полном устранении военной, в первую очередь ядерной угрозы КНДР со стороны США (в том, как ее интерпретируют в КНДР), на прекращении Соединенными Штатами всех «агрессивных» действий против КНДР, в том числе проведения совместных американо-южнокорейских военных учений, а также на снятии части санкций, которые рассматриваются Пхеньяном как бесспорное проявление враждебности.
Заключение
Впервые за время существования двух государств на Корейском полуострове Россия столкнулась с беспрецедентной ситуацией, когда ее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, научные, культурные, образовательные связи с одним из них, нашим непосредственным соседом — КНДР, оказались фактически под международным контролем. И создали эту ситуацию мы сами, проголосовав за И резолюций СБ ООН, введших невиданно жесткие санкции в отношении государства, с которым у нас с 2000 по 2024 год был Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.
Наши попытки отменить часть этих санкций, которые, как было ясно еще до их принятия, наносили нам существенный ущерб, как экономический (запрет на использование нужной нам рабочей силы, особенно на Дальнем Востоке), так и имиджевый (мы согласились на санкции против страны, с которой Россия сравнительно недавно подписала Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве), выглядели по меньшей мере непоследовательными. Как бы политкорректно обе стороны не характеризовали наши отношения, беседы с северокорейскими представителями в тот период показывали, что доверие между нами оказалось серьезно подорвано.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 2024 года и обмен визитами на высшем уровне в 2023—2024 гг. заметно выправили ситуацию. Шагом, радикально изменившим всю атмосферу двусторонних отношений, стала договоренность об участии воинских подразделений КНДР в специальной военной операции (СВО) по отражению вторжения украинских сил в Курскую область России.
При выработке позиции России по обеспечению безопасности в регионе следует учитывать, что реализация планов США и их союзников в конечном счете предусматривает ликвидацию КНДР и создание на полуострове такого единого корейского государства, которое, по расчетам Вашингтона, войдет в состав приобретающего все более зримые очертания военно-политического альянса США—Япония—Корея.
Установление Соединенными Штатами контроля над уникальным по военно-стратегическому значению районом, каким является Корейский полуостров, расположенном на стыке границ РФ и КНР, вызвало бы серьезную разбалансировку ситуации в Северо-Восточной Азии. Вполне вероятный в результате такого развития событий — выход американских вооруженных сил, дислоцированных пока на юге Корейского полуострова, на сухопутные границы РФ и КНР на континентальной части Азии — привел бы к весьма негативным для нас (и Китая) изменениям в обстановке в СВА и в АТР в целом.
В свете таких замыслов раздающиеся в Вашингтоне упреки в адрес Москвы в несоблюдении санкционного режима в отношении КНДР, призванному в конечном итоге привести к ликвидации этой страны, равнозначны попыткам заставить Москву собственными рука- ми вымостить дорогу американским войскам на наши границы с Кореей.
Те деятели и аналитики, которые столь рьяно выступали и выступают против расширения НАТО на Восток, но осуждали меры КНДР по укреплению своей обороноспособности, почему-то не учитывали, что в случае ликвидации этой страны мы очень быстро получим полномасштабный военный альянс — клон НАТО на наших восточных границах в составе США—Япония—объединенная Корея. Вряд ли стоит сомневаться, что размещенные пока на юге Корейского полуострова американские войска быстро очутятся на 13 60-километровой границе КНДР с Китаем и 17-километровой с Россией и останутся там, как это произошло в Ираке и ряде других стран, на неопределенное время, разумеется, для «предотвращения попадания северокорейского ядерного оружия в руки террористов», «поддержания порядка» и т.п.
Какими последствиями для России и ее безопасности на Дальнем Востоке чреват такой вариант, разъяснять представляется излишним.
В первой половине 90-х годов XX века мы уже пытались в корейском вопросе, что называется, «бежать впереди паровоза» и спешили с санкциями в отношении КНДР едва ли не поперед США. В результате мы оказались отстраненными от переговоров об урегулировании первого ядерного кризиса в Корее в 1993—1994 г., от участия в КЕДО в 1995 г., а наши тогдашние «стратегические партнеры» — США и РК — не сочли нужным пригласить нас на четырехсторонние переговоры (США, КНР, КНДР, РК) в 1996 году.
Кстати, та ситуация почти повторилась в случае с шестисторонними переговорами (Россия, КНР, КНДР, США, Япония, Республика Корея), проходившими в 2003—2008 гг., В число участников этого форума мы попали благодаря позиции КНДР. А в 90-е годы, обрушив отношения с этой страной, у нас с удивлением обнаружили, что в корейских делах к нам утратили интерес не только в Сеуле, но и в Вашингтоне и Токио.
Отношение США к недолгой «фронде» Франции и Германии в связи с вторжением США в Ирак в 2003 г. показало, что надежды тех, кто рассчитывал на некое подобие равноправного партнерства с США были утопичны. Вашингтон намерен иметь дело лишь с теми, кто безоговорочно поддерживает американские цели. Те же, кто создает помехи на пути их достижения или просто перестают быть полезными, будут игнорироваться или... устраняться. Тем не менее целый ряд политиков, общественных деятелей и экспертов, которые сейчас не сходят с телеэкранов, критикуя нынешнюю политику Вашингтона в отношении Москвы, в то время усиленно ратовали за «стратегический союз» с США.
На учет наших интересов или ответные шаги США по снятию озабоченностей России, на что у нас так надеялись тогда, не приходится рассчитывать и сегодня. Разумеется, наши официальные лица категорически отрицали то, что, как сообщали целый ряд СМИ в России и за рубежом, наше голосование в СБ ООН в 2006 г. по «корейским» резолюциям было отчасти мотивировано стремлением заручиться согласием Запада на проект предлагавшейся нами тогда же резолюции по Грузии244. Не стану утверждать, имел ли место такой размен. Но если имел, то каких-то реальных выгод России он не принес, о чем свидетельствовало отношение Запада к нашим действиям в ходе грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года и позже, в 2014 году.
Высказывания лидера КНДР Ким Чен Ына и другие официальные заявления КНДР свидетельствуют о том, что ее руководство намерено добиваться международного признания де-факто ядерного статуса страны, настаивая на отказе США и других заинтересованных стран от двойных стандартов в области ядерного и ракетного нераспространения. Особенно это касается использования космического пространства в мирных целях и запуска спутников.
С учетом нынешних позиций США и КНДР, а также внутриполитической ситуации в США, Японии и Южной Корее переговорное решение главных проблем американо-северокорейских отношений, в первую очередь т.н. «ядерной проблемы Корейского полуострова»(ЯПКП), в кратко-и среднесрочной перспективе представляется маловероятным. По мнению целого ряда американских аналитиков, в настоящее время для США реалистичнее вести речь о замораживании ядерной и ракетной программ КНДР, нераспространении ею ОМУ в обмен на признание как минимум права Пхеньяна на мирный атом и запуски спутников.