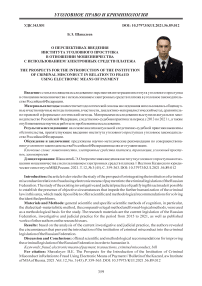О перспективах введения института уголовного проступка в отношении мошенничества с использованием электронных средств платежа
Автор: Шавалеев Булат Эдуардович
Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd
Рубрика: Уголовное право и криминология
Статья в выпуске: 3 (45) т.12, 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение: статья посвящена исследованию перспектив интеграции института уголовного проступка в отношении мошенничества с использованием электронных средств платежа в уголовное законодательство Российской Федерации. Материалы и методы: в качестве методологической основы исследования использовались общенаучные и частнонаучные методы познания, в частности, диалектико-материалистический метод, сравнительно-правовой и формально-логический методы. Материалами исследования выступили актуальное законодательство Российской Федерации, следственно-судебная практика за период с 2013 по 2021 г., а также опубликованные научные работы по проблематике исследования. Результаты исследования: на основе анализа актуальной следственно-судебной практики выявлены обстоятельства, препятствующие введению института уголовного проступка в уголовное законодательство Российской Федерации. Обсуждение и заключения: предложены научно-методические рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства Российской Федерации в целях его гуманизации.
Мошенничество, электронные средства платежа, транзакции, уголовный проступок, законопроект
Короткий адрес: https://sciup.org/142231028
IDR: 142231028 | УДК: 343.851 | DOI: 10.37973/KUI.2021.56.89.012
Текст научной статьи О перспективах введения института уголовного проступка в отношении мошенничества с использованием электронных средств платежа
Современное уголовное законодательство Российской Федерации развивается и совершенствуется, принимаются меры по приведению его к международным стандартам. Ключевая тенденция в данной сфере характеризует процесс его гуманизации путем декриминализации ряда составов, применения института административной преюдиции, а также поиска альтернативных нерепрессивных вариантов уголовно-правового воздействия. Однако далеко не все изменения получают положительную оценку ученого сообщества. Так, например, инициатива Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ) о введении уголовного проступка привела к активной дискуссии в научной литературе о перспективах, правовой природе, необходимости, а также иных аспектах института уголовного проступка.
Впервые законопроект1 был предложен ВС РФ в 2017 г. и разрешил ключевые вопросы о сущности уголовного проступка, а также его соотношения с преступлением и административным правонарушением, однако инициатива была раскритикована как Правительством Российской Федерации, так и широким кругом представителей ученого сообщества, которые отметили, что предлагаемые изменения не согласуются со ст. 52 Конституции Российской Федерации2, поскольку не учитывают в необходимой мере права потерпевших от преступлений.
В 2020 года председатель ВС РФ В.М. Лебедев подтвердил, что разрабатывается новая версия законопроекта об уголовном проступке, в результате чего 15.02.2021 данный проект федерального закона был внесен в Государственную думу3.
Согласно данному законопроекту, уголовным проступком признается совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое уголовным законом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, за исключением ряда преступлений, указанных в проектной статье 15.1.
Мы считаем, что необходимость либерализации уголовного законодательства на сегодняшний день не вызывает сомнений, в связи с этим инициатива об интеграции уголовного проступка концептуально обоснована и позволит дифференцировать уголов- ную ответственность в соответствии со степенью и характером общественной опасности деяния.
Однако, по нашему мнению, актуальная редакция законопроекта находится в конфронтации со сложившейся следственно-судебной практикой, что препятствует введению института уголовного проступка в законодательство Российской Федерации. Так, авторы законопроекта считают, что в категорию уголовного проступка необходимо перевести деяние, предусмотренное ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)4, а именно: мошенничество с использованием электронных средств платежа (далее – мошенничество с ИЭСП). В связи с этим мы считаем, что необходимо исследовать перспективы и потенциальные проблемы, связанные с переводом данного деяния в категорию уголовного проступка.
Обзор литературы
Различным аспектам и проблематике интеграции института уголовного проступка в уголовное законодательство Российской Федерации было посвящено множество работ отечественных ученых-правоведов, например, Л.В. Головко [1], Б.Я. Гаврилова [2, 3], Н.Ю. Скрипченко [4], А.Г. Блинова, А.М. Герасимова [5], Е.В. Роговой [6], В.Н. Сизовой [7], Хутова К.М. [8] и других авторов.
В целом исследование научной литературы по данной теме позволяет отметить активную дискуссию с 2017 г. о перспективах применения института уголовного проступка в уголовном законодательстве, а также значительный объем научно-методических рекомендаций в рамках совершенствования данного института.
Материалы и методы
В качестве материалов исследования использовалось актуальное законодательство Российской Федерации, обобщенные официальные статистические данные по следственно-судебной практике за период с 2013 по настоящее время, опубликованные Судебным департаментом при Верховном Суде РоссийскойФедерации,более150приговоровсудов по делам о мошенничестве с использованием электронных средств платежа, опубликованных в элек-троннойбазесудебных актов,атакжеработыдругих авторов в рамках обозначенной проблематики.
В качестве методологической основы исследования автором использовались диалектический метод познания, общенаучные и частнонаучные методы познания: нормативно-логический, метод сравнительного правоведения и другие методы.
Результаты исследования
15 февраля 2021 г. ВС РФ внес обновленную редакцию проекта федерального закона об уголовном проступке1, которым предусмотрено, что уголовным проступком следует признать 112 составов преступлений, в частности, мошенничество с ИЭСП (ч. 1 ст. 159.3 УК РФ).
Безусловно, процессы гуманизации и либерализации уголовного законодательства требуют переоценки его отдельных институтов, что позволит обеспечить эффективную уголовно-правовую охрану общественных отношений в современных социально-экономических условиях, однако проведенное нами исследование актуальной правоприменительной практики за период с 2013 по настоящее время свидетельствует о наличии ряда проблем.
Так, в период с января по март 2021 года зарегистрировано 4510 деяний, предусмотренных ст. 159.3 УК РФ, что на 58,3% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года2.
Причиной такой разницы в количестве зарегистрированных фактов мошенничества с ИЭСП, несмотря на негативноевлияние,обусловленнорас-пространением новой коронавирусной инфекции, а также увеличением количества преступлений, сопряженных с неправомерным использованием информационных технологий, являются особенности его квалификации. До октября 2020 года рекомендации по квалификации мошенничества с ИЭСП содержались в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»3, согласно которому действия лица следует квалифицировать по статье 159.3 УК РФ в тех случаях, когда хищение имущества осуществлялось с использованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или инойплатежной картыпутем сообщения уполномоченному работнику кредитной, торговой или иной организации заведомо ложных сведений о принадлежности указанному лицу такой карты на законных основаниях либо путем умолчания о незаконном владении им платежной картой.
Однако в октябре 2020 г. Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ не согласилась с предло- женной квалификацией и указала, что по ст. 159.3 УК РФ следует квалифицировать хищение электронных денежных средств, когда их изъятие было осуществлено путем обмана или злоупотребления доверием работника кредитной, торговой или иной организации, исключив указание на умолчание о незаконном владении электронным средством платежа4.
То есть при оплате товаров, например, банковской картой, при условии, что уполномоченный работник кредитной или торговой организации не осведомился о законности ее использования, деяние следуетквалифицироватьпоп. «г»ч.3ст. 158 УК РФ.
Примечательно, что действующими нормативными правовыми актами работники торговых или кредитных организаций, осуществляющие платежные операции, не уполномочены осуществлять проверку документов и принадлежности электронных средств платежа, что обусловило изменение правоприменительной практики по исследуемой статье. Мы считаем, что достижение целей введения института уголовного проступка в этом случае невозможно, поскольку деяния, ранее квалифицируемые как мошенничество с ИЭСП, в настоящее время квалифицируются по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, что предполагает более строгое наказание для виновных, а также увеличение доли тяжких преступлений в общей структуре преступности в Российской Федерации, тогда как само деяние в сущности не стало характеризоваться большей общественной опасностью.
Обсуждение и заключения
Разрешение выявленной проблемы требует пересмотра сложившейся практики и рекомендаций по квалификации исследуемого деяния, поскольку актуальные рекомендации по квалификации мошенничества с ИЭСП не способствуют гуманизации уголовного законодательства Российской Федерации, а, напротив, приводят к увеличению доли тяжких преступлений в структуре преступности, а также излишней репрессивности практики назначения наказаний.
Мы считаем, что правовая позиция, изложенная в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», является более точной, поскольку учитывает воз- можность пассивного обмана сотрудника торговой или кредитной организации, заключающегося в умолчаниионеправомерностииспользования электронного средства платежа, а также предполагает возможность назначения менее строгого наказания по ч.1 ст.159.3 УК РФ, а в перспективе и применение уголовного проступка.
Вышеизложенная точка зрения на квалификацию мошенничества коррелирует с положениями гражданского законодательства, поскольку работник торговой, кредитной или иной организации ожидает добросовестного поведения от лица, неправомерно использующего электронные средства платежа, в силу установленной п. 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации1 презумпции добросовестности. Следовательно, кассир не препятствует хищению под действием обмана, что позволяет сделать вывод, что обман является способом введения его в заблуждение относительно реальной воли собственника электронного средства платежа.
Безусловно, введение института уголовного проступка в уголовное законодательство Российской Федерации является условием его гуманизации и либерализации, соответствует актуальным целям и задачам уголовной политики, а также исключает избыточную репрессивность уголовной ответственности, однако требует качественной и тщательной подготовки с учетом научно-методических рекомендаций.
Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым применение правил квалификации мошенничества с ИЭСП, изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», что позволит разграничить конкурирующие составы преступлений, а также привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности в зависимости от степени и характера общественной опасности деяния, что в настоящее время невозможно в сфере хищений, сопряженных с неправомерным использованием электронных средств платежа.
Также разграничению конкурирующих составов преступлений, следовательно, и разрешению проблемы интеграции института уголовного проступка будет способствовать изменение диспозиции ст. 159.3 УК РФ. В связи с этим считаем необходимым изложить ст. 159.3 УК РФ в следующей редакции:
«Статья 159.3 УК РФ. Мошенничество с использованием электронных средств платежа.
Мошенничество с использованием электронных средств платежа, то есть хищение электронных денежных средств путем обмана работника торговой, кредитной или иной организации».
Список литературы О перспективах введения института уголовного проступка в отношении мошенничества с использованием электронных средств платежа
- Головко Л.В. Законопроект об уголовном проступке: мнимые смыслы и реальная подоплека // Закон. 2018. № 1. С. 128 - 136.
- Гаврилов Б.Я. Уголовный проступок в структуре уголовного закона: прошлое, настоящее, будущее // Юридическая техника. 2020. № 14. С. 387 - 400.
- Гаврилов Б.Я. Возвращение в Российское законодательство уголовного проступка как одно из направлений политики государства по обеспечению прав и свобод человека и гражданина // Вестник УЮИ. 2021. №1 (91). С. 91 - 99.
- Скрипченко Н.Ю. Уголовный проступок: объективная потребность или декларируемая необходимость? // Уголовно-исполнительное право. 2018. № 2. С. 94 - 101.
- Блинов А.Г., Герасимов А.М. Уголовный проступок и его природа // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2018. № 2. С. 18 - 27.
- Гаврилов Б.Я., Рогова Е.В. Уголовный проступок: концепция развития (мнение ученого и практика) // Публичное и частное право. 2016. № 4. С. 7 - 45.
- Хутов К.М. Законопроект о введении в УК РФ уголовного проступка: за и против // Вестник СГЮА. 2021. № 1 (138). С. 154 - 160.
- Сизова В.Н. К вопросу о некоторых новеллах современного уголовного законодательства России (в порядке научного прогнозирования) // Труды Академии управления МВД России. 2021. № 1 (57). С. 101 - 106.