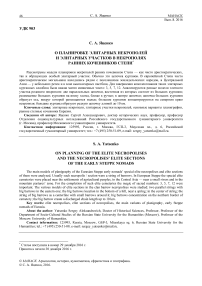О планировке элитарных некрополей и элитарных участков в некрополях ранних кочевников степи
Автор: Яценко С.А.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Археология
Статья в выпуске: 8, 2016 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены модели планировки некрополей ранних кочевников Степи - как чисто аристократических, так и образующих особый элитарный участок. Обычно это цепочка курганов. В европейской Степи чисто аристократические могильники находились рядом с поселениями земледельческих народов, в Центральной Азии - у небольших речек и в зоне высокогорных пастбищ. Для завершения комплектования таких элитарных курганных кладбищ была важна магия священных чисел: 3, 5, 7, 12. Анализируются разные модели элитного участка родового некрополя: две параллельных цепочки, восточная из которых состоит из больших курганов; размещение больших курганов на внизу холма, ближе к ручью; в центре цепочки; цепочка больших курганов образует ось, вокруг которой размещаются малые; большие курганов концентрируются на северном краю некрополя; большие курганы образуют редкую цепочку длиной до 10 км.
Элитарные некрополи, элитарные участки некрополей, основные варианты планиграфии, ранние степные кочевники евразии
Короткий адрес: https://sciup.org/14118140
IDR: 14118140 | УДК: 903 | DOI: 10.5281/zenodo.556155
Текст научной статьи О планировке элитарных некрополей и элитарных участков в некрополях ранних кочевников степи
Вып. 8. 2016
и элитарных участков в некрополях ранних кочевников Степи
В этой статье речь пойдет об особенностях планировки (планиграфии) могильников ранних кочевников: как состоявших исключительно из могил знати в больших курганах, так и включавших особый элитарный участок для знати в родовом некрополе. Задача сопоставления планиграфии подобных некрополей в масштабах евразийской Степи и прилегающей к ней горной зоне летних стоянок для скифо-сакского и сюнну-сарматского периодов никогда не ставилась. Между тем, она может дать в наши руки весьма ценный материал.
На пути подобного сопоставления существует немало объективных и субъективных трудностей. Например, многие подобные некрополи (или даже их крупные участки) исследованы на сегодняшний день далеко не полностью; часто неясно, к какой культуре относятся соседние малые курганы. Нередки ситуации, когда общие планы того или иного, уже давно знаменитого курганного могильника хорошего качества подолгу не публикуются или еще вообще не созданы. И сегодня во многих странах есть коллеги, которые мыслят, в основном масштабом не некрополя, а отдельного кургана. Поэтому встречаются «полные, образцовые» публикации конкретного некрополя, где отсутствует его общий план (!), а есть лишь планы отдельных курганов (вариант: публикуется лишь план курганов одной культуры в некрополе — той, которая лично интересует исследователя). Встречаются и общие планы могильника в его публикации, где все курганы, разной высоты и диаметра, изображаются стандартным значком одного размера; где недавно разрушенные строителями (не изученные археологически) курганы не нанесены на план, даже если соответствующие карты у исследователя имеются и т.п.
Среди интересующих нас чисто аристократических курганных некрополей или аристократических участков в могильниках различаются состоявшие только из комплексов одной культуры или вписанные в уже существовавшие более ранних эпох (увы, последние далеко не всегда приводятся в публикациях); курганные кладбища, где все курганы были разграблены (во многих случаях — в древности), и где часть могил от ограбления уцелела до наших дней. Важным моментом представляется размещение таких некрополей на местности (у водоемов, в горных котловинах, вдоль древних дорог, на гребне возвышенности, у селений зависимого или союзного оседлого населения, у переправ и др.). Подобный могильник всегда, а участок некрополя — почти всегда образует единую цепочку (изредка встречаются две параллельных или перпендикулярных цепочки, а также курганное поле со сравнительно хаотическим размещением). Для Южного Казахстана и многих районов северного Алтая такая цепочка обычно (если не мешал рельеф местности) ориентирована по линии Ю-С, и некоторые коллеги склоны считать такую цепочку отражением реального размещения жилищ на кочевой стоянке (со входом в жилища с востока) (Кубарев, Шульга 2007: 37—41). Не менее значимым параметром можно считать размеры (площадь и число курганов) некрополя определенной культуры. Наличие выраженного элитарного участка или целого некрополя во владениях конкретной общины (или нескольких соседних общин) зависело, среди прочего, от наличных ресурсов, которыми располагала данная группа (близость к политическому центру, торговым путям, к оседлым центрам ремесленного производства, к источникам дорогого сырья — пушнины, золота и т.п. [как в Южном Приуралье и части территории Саяно-Алтая]).
Принято думать, что для самих кочевников скифо-сакского времени главным визуальным определителем элитарности / знатности умерших «хозяев» кургана были его размеры (или объем земляных работ при его сооружении). Однако мне кажется, что не менее значимыми часто были и детали планиграфии (размещение на местности, соотношение с соседними большими курганами и др.). Есть и сомнения в том, что элитарность всех
Вып. 8. 2016
умерших некрополя подчеркивалась именно размерами его курганов (см. ниже вероятные редкие примеры противоположного). Сегодня популярно мнение, что у ранних кочевников существовали прото-сословия. Но как вообще отражалась знатность происхождения умершего в облике его кургана и его месте в планировке родового курганного кладбища? В принципе можно ожидать, что родовитый, но разорившийся из-за экономических и военных неурядиц, кровной мести, эмиграции, прогневивший сородичей и верховного правителя и т.п. аристократ мог хорониться более чем скромно. Следовательно, в случае пышного захоронения в крупном кургане (в составе группы) речь идет не только о знатном по рождению лице, но и о человеке с «удачно сложившейся» по тогдашним представлениям судьбой (удержание рычагов власти, хозяйственное процветание или хотя бы совершение признанных коллективом героических деяний и т.п.).
Однако то, что в огромном большинстве могильников сочетаются несколько крупных курганов и большее число малых, не всегда надежно свидетельствует, что это не элитарный некрополь/участок. Как уже отмечалось, в кочевом (да и в оседлом) обществе знатность происхождения , увы, часто не означала материального богатства и соответствовавшего ему пышного погребального обряда. И Чингизиды, и родня сюннуских шаньюев уже во втором-третьем поколениях часто сталкивались с проблемами, связанными с последствиями усобиц, политической эмиграции, голодовок и падежа скота, войн с внешним врагом и т.п. Их положение неплохо иллюстрирует монгольская пословица «Богатый — до первого снежного бурана». На первый взгляд, мы можем уточнить родство захороненных в таких некрополях людей по генетическому анализу ДНК из костей умерших (недавно, например, такой дорогостоящий грант для сарматов получила антрополог из Волгограда М. А. Балабанова). Увы, уповать на это во многих случаях будет ошибкой. В реальности кочевая община включала, помимо родственников (и, разумеется, жен со стороны), также добровольно интегрированных в нее по разным причинам чужаков, а часто (особенно в случае больших людских потерь) и принудительно — представителей побежденных и зависимых групп. Это нередко отражено и в фольклоре кочевников (классическими можно считать к казахском эпосе «Кобланды-батыр» сетования персонажей на то, что «со злейшим врагом вместе кочевать приходится» и т.д.).
Для элитных некрополей / участков значимой представляется числовая магия количества курганов. Создается впечатление, что «завершение комплектования» многих некрополей подобного типа / элитарных участков было связано с достижением одного из искомых священных (благопожелательных) чисел: 3, 5, 7, 12…1. До сих пор не вполне осознан тот факт, что число курганов в отдельном некрополе ранних кочевников Степи на конкретной хронологической / культурной стадии обычно столь мало (от 2—3 до 10—15 курганов, чаще всего с одиночными захоронениями), что никоим образом не отражает реальной демографии небольшой кочевой группы (пользовавшейся совместно пастбищами, водопоем, местом сезонной стоянки и общим кладбищем). Речь может идти либо о некрополе, созданном в течение жизни одного поколения (если это можно аргументировать), либо (что кажется более вероятным) о захоронении на родовом кладбище только избранной части мужчин (куда реже — женщин, и много реже — детей) в течение нескольких поколений. Тогда получается, что
Вып. 8. 2016
и элитарных участков в некрополях ранних кочевников Степи места и способы захоронения большинства членов каждой кочевой общины нам попросту неизвестны (и вряд ли станут известны в дальнейшем). В этом случае все подсчеты и оценки специалистов-антропологов о популяциях людей, хозяйстве конкретной общины и т.п. только на материалах наличных могильников нуждаются в существенной корректировке… Действительно, в реальных родовых некрополях ранних кочевников чаще всего de facto рядом размещаются и курганы влиятельной верхушки и могилы их обедневших сородичей, как это наблюдается у «этнографических» кочевников до сих пор. В тех (весьма обычных) случаях, когда в некрополе лишь один курган имеет большие размеры, нельзя исключить, что он принадлежал в ряде случаев не аристократу (похороненному по каким-то причинам у летней стоянки и т.п.), а наиболее уважаемому члену местной общины (ее реальному создателю, героической личности и т.п.).
Письменная традиция прошлого о специальных элитарных кладбищах номадов скорее вызывает у археологов недоумение, чем сколько-нибудь помогает в их работе. Достаточно вспомнить сведения Геродота (Her., IV, 71) об особом кладбище скифских царей кон. VI — перв. пол. V вв. до н.э. в местности Геррос недалеко от порогов Днепра, с его высокими курганами с ямными могилами внутри. Археологическая реальность на сегодня такую компактную локализацию никак не допускает… Засвидетельствованный в ярком описании Марко Поло некрополь Чингизидов в одной из местностей в горах Алтая (Монгольского) не удалось выявить до сих пор и т.п.
В ходе подготовки данной статьи большая помощь была оказана множеством коллег, поделившихся со мною (главным образом, в ноябре—декабре 2016 г.) малодоступными публикациями или неопубликованными планами некрополей, собственными ценными соображениями. Без их доброжелательной поддержки этот текст в нынешнем виде не был бы возможен2. Статья представляет собой развитие идей моего «дополнительного» доклада на международном Круглом столе «Элита Боспора и боспорская элитарная культура» 24 ноября 2016 г. в Институте истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) (Яценко 2016a: 311—319).
Начну свой анализ с предполагаемых чисто элитарных некрополей , а из них — вначале тех, которые относятся к скифо-сакскому времени. Их на сегодняшний день известно очень немного. Прежде всего, для европейский степной Скифии и Северного Кавказа таковыми, по справедливому наблюдению А. Ю. Алексеева, являются всего 3—4 памятника. Большинство их них относятся к раннескифскому времени и локализуются в северо-западном Предкавказье, на границе владений ранних скифов с кобанскими и прото-меотскими оседлыми племенами. Однако замечу, что три предкавказских памятника находились в зоне распашки или ирригационных работ, и потому возможные мелкие, «рядовые» курганы могли не сохраниться (в таком случае эти некрополи уже нельзя будет назвать чисто элитарными).
Наиболее ранним можно считать могильник втор. пол. VII в. до н.э. у хут. Красное Знамя на Ставрополье, раскопанный полностью с 1973 по 1980 гг. (рис. 1: 1 ). Некрополь находился на террасе ручья, впадавшего в речку Дубовку, приток Томузловки. Он
Вып. 8. 2016
представлял собой скопление из 9 разграбленных в древности курганов, большинство из которых распахивалось, но и после этого имело высоту ок. 1,5—2 м, а самый высокий № 1 (на восточном краю) — высоту 11 м. В плане некрополь представлял собой компактное скопление 7 курганов знати среднего размера (священное число), фланкируемое по краям двумя более крупными насыпями. Судя по хронологии, могильник как раз и начинался именно с этих двух самых крупных курганов, а также с третьего — кургана 9 (ограничивавшего будущее кладбище с юго-запада), которые и задали план некрополя на будущее3 (Петренко 2006: 114, табл. I). В этом комплексе представлены две формы могильных сооружений — прямоугольные ямы и каменные склепы (в самом высоком кургане были три склепа и к востоку от них — прямоугольное каменно-сырцовое т.н. «святилище огня»). Ровики курганов здесь обычно имели ширину 5—8 м, а в самом высоком — 27 м. В южной гробнице кургана 1 у мужчины около 50 лет уцелели фрагменты некогда роскошного костюма.
Вторым по времени был некрополь Келермес рубежа VII—VI вв. до н.э. в Закубанье. Он расположен вдоль правого берега речки Айрюм в бассейне Средней Кубани. В 7 км севернее, при впадении Айрюма в р. Улька находились, по старой карте Е. Д. Фелицына, два древних (раннемеотских?) городища. Лучше изучен т.н. «основной участок» кладбища с 33 курганами (все они, видимо, подверглись ограблению в раннескифское время). Его план в основе был составлен после разведки А. А. Иессена 1950 г.4 (рис. 1: 2 ) (Галанина 1997: рис. 2). К сожалению, документация главных по масштабу, дореволюционных раскопок Д. Г. Шульца и Н. И. Веселовского 1903—1904 гг., раскопавших в «основной» группе 19 курганов, весьма фрагментарна и полна путаницы. Некрополь возник вокруг нескольких имевшихся курганов эпохи бронзы, 8 курганов использовались лишь в бронзовом веке5. 8 курганов остались вообще неисследованными археологами. Видимо, сразу после окончания функционирования раннескифского могильника в его центре (между соседними курганами 14 и 17) возникло компактное грунтовое кладбище местного оседлого и подвластного меотского населения из нескольких десятков могил (вскрыто не полностью), а в несколько скифских курганов (13, 19 и 21) были впущены меотские погребения. Не исключено, что меоты и были обычно грабителями курганов.
«Основной участок» в Келермесе представлял собой плотную цепочку из 31 крупного кургана, вытянутую с ЮВ на СЗ; самые низкие из них были в высоту от 0,5—0,8 м. Впрочем, ряд этой цепочки был нестрогим: несколько курганов (1, 15, 16, 23, 24, 29) слегка отклонялись о основной оси (обычно — на СВ), а курганы 32 и 33 стояли в 400—500 м в стороне. Самые крупные курганы здесь сосредотачивались по краям (2 и 6, 27 и 31) и в центре цепочки (17). Сильное разрушение насыпей большинства курганов не позволяет судить об их высоте даже к концу XIX в. Курган 2 сохранил высоту в 6,7 м, а не идентифицированный курган 1 по Д. Г. Шульцу был высотой 6,4 м; разрушенный курган 31 к 1980-м годам был 5,5 м в высоту.
Третий некрополь, претендующий на статус чисто элитарного — Новозаведенное II, трет. четв. VII — перв. пол. VI вв. до н.э., исследованный в 1985—1993 гг. полностью на высокой террасе реки Кума (Медникова 2000: рис. 1). Антрополог М. Б. Медникова
Вып. 8. 2016
и элитарных участков в некрополях ранних кочевников Степи предполагает его функционирование при жизни одного поколения при примерно равном количестве похороненных мужчин и женщин. Его 22 кургана (высотой от 1 м, в среднем — около 3 м) в целом образовывали нестройную цепочку длиной около 1,5 км (рис. 1: 3). Здесь заметны три компактных «семейных группы»: центральная цепочка из 5 курганов (1, 12—14, 16), скопление из 7 курганов к СЗ от него (3, 5—6, 8—11), и цепочка из трех курганов на северном краю (20—22). На противоположном, восточном краю видим пару курганов из огромного № 7 и прилегающего № 2; еще одна пара (18—19) находится в 300 м в стороне от общей цепочки могильника. В геометрическом центре некрополя здесь располагались три кургана мужчин 20—34 лет (1, 13, 16); южнее курганы находились парами мужчина — женщина (курганы 12 и 14, 2 и 7). В шести изученных на 2000 г. курганах северо-западного края (3, 5, 8—11) были, видимо, три пары мужчин и три пары женщин. Заметно выделялся здесь курган 7 высотой 8 м на южном краю (поврежденный при строительстве шоссе). Подобное выделение одного крупного кургана на краю некрополя — не редкость у ранних кочевников6; с такого кургана, видимо, и начиналось формирование курганного кладбища.
Еще один некрополь, который можно считать чисто элитарным и состоявшим из крупных курганов, датируется уже более поздним, «классическим» временем. Он находился на территории Европейского Боспора, на мысу Ак-Бурун в Восточном Крыму, к югу от Керчи. Судя по его старым планам, он состоял всего из 5 крупных, овальных в плане курганов (свяшенное число), образовывавших цепочку с довольно равномерными промежутками по линии В-З на скальном гребне Юз-Оба (Бутягин, Виноградов 2014) (рис. 2). Вероятно, это был специально выделенный участок для погребения эллинизированной кочевой знати, связанной с боспорской столицей Пантикапеем. К сожалению, он был изучен неполно и документирован фрагментарно еще в имперское время. Мыс Ак-Бурун отличался эффектным цветом скал, он был своеобразным, отовсюду заметным входом в городскую гавань. Миниатюрный могильник формировался со второй половины V в. до н.э. (курган 5) и функционировал до рубежа IV—III вв. до н.э. (курган 3), то есть «накапливался» около 1,5 веков (явно лишь по очень важным поводам), включая знать скифского и, возможно, савромато-меотского происхождения (Бутягин, Виноградов 2016: 106—112). Показательно, что число «5» мы встречаем и на элитарных участках ряда могильников этого времени в Приазовье. Так, видимо, выглядела группа из 5 каменных склепов мужчин—воинов V в. до н.э. со скифскими элементами обряда среди курганов греческого городка Нимфея (Силантьева 1959: 51). Народное название элитарного участка некрополя скифской знати в устье Дона, у станицы Елисаветовской «Пять Братьев», по данным В. П. Копылова, тоже не было ошибкой. И далее в нашей статье число «5» фигурирует часто, что не может быть случайным7.
По любезному сообщению К. Ташбаевой, в высокогорье Тянь-Шаня (Нарынский район Нарынской области Кыргызстана), на высоте около 2500 м в межгорной котловине в местности Ак-Торпок , недавно открыты разведкой по соседству четыре небольших могильника только из крупных сакских курганов (всего 19). Эти группы (в двух из них было
Вып. 8. 2016
по 4 кургана, еще в двух — по 5 и 6 курганов) находились на расстоянии 1—1,5 км друг от друга. Размещение курганов внутри каждой цепочки было очень плотным (с интервалами в 2—5 м). Водоемов поблизости не было. Материал пока не публиковался.
Обратимся теперь к памятникам скифо-сакского культурного круга Саяно-Алтая. Здесь наиболее важным является малый могильник каменской культуры Бугры , в Барнаульском Приобье, в 40 км к югу от г. Рубцовск, на левом берегу Оби, датируемый в пределах V—II вв. до н.э. (Тишкин 2012: 281—290). Он занимает небольшую возвышенность высотой около 370 м, вытянутую более чем на 1 км по линии С-Ю у верховьев ручья Злыдарка. Дальнейшие раскопки и основательная публикация памятника еще предстоят. Раскопаны курганы 1 и 4. Всего здесь на сегодня сохранилось 5 крупных курганов, расположенных по линии С-Ю с разными промежутками (курганы 2 и 3 сближены); к кон. XIX в. некоторые из них имели высоту до 9 м (рис. 3). Однако в 1960-е годы, по данным В. К. Чугунова, еще два кургана были уничтожены местными крестьянами. Учитывая то, что курганы составляли цепочку, и южнее самого крупного кургана 1 их не было, два уничтоженных комплекса, скорее всего, находились у северного края. Иными словами, всего курганов было 7 (священное число). Все курганы опахивались (курган 1 — только с запада), и местность вокруг подвергалась распашке; но наличие малых курганов здесь не подтверждает первое описание этой группы, сделанное еще во второй половине XIX в. С. И. Гуляевым. В. К. Чугунов считает самые крупные из них (1 и 3), имеющие рвы, царскими, остальные — принадлежавшие знати более низкого ранга.
Не исключено, что элитарным было Аржанско-Кошпейское курганное поле в т.н. Долине Царей в северной Туве8 (рис. 4). На первый взгляд, считать эту группу некрополей целиком принадлежавшей элитарным группам нет оснований, т.к. здесь преобладают относительно небольшие курганы (часть из которых уже исследована). Но меня убеждают наблюдения М. Е. Килуновской, что при этом даже у малых курганов размеры все же больше , чем на синхронных памятниках окружающих районов Тувы, а обрядность отличается от последних. Основную ось этих некрополей образуют 4 находящихся по единой линии с большими промежутками очень крупных кургана (Аржан I—IV). Они расположены на краю возвышенности, вдоль границы с поймой р. Уюк и Белых озер. Самые крупные могильники находятся ближе к центру этой цепочки, вокруг курганов Аржан IV и III. Цепочку больших курганов в районе Аржана можно сравнить с цепочкой из шести курганов скифской знати на участке днепровского Правобережья (с востока на запад — Чертомлык, 22 м высоты — Соболева Могила, 6,5 м — Денисова Могила, 6 м — Страшная Могила, 7 м — Чебанова Могила, 5 м — Толстая Могила, 8,5 м). В междуречье Днепра, Базавлука, Чертомлыка и Соленой скифские курганы, в отличие от курганов энеолита и бронзового века, занимали лишь узкую полосу на самом высоком участке водораздела (134 кургана из 157) (Черных, Дараган 2014: 400, карты 15, 18, 27) (рис. 5). При этом рядом с самыми крупными курганами скифов часто находились «длинные курганы» эпохи бронзы, высоту которых скифы всегда старались превзойти. Связь (и своеобразное «соперничество») самых высоких скифских и ранних «длинных» курганов неоднократно отмечалась исследователями (Щеглов, Кац, Смекалова 2013: 25). В Междуречье Ингула и Нигульца, вдоль правого берега речки Висуни вытянуты в единую линию В-З на 10 км пять высоких скифских курганов и один эпохи бронзы (Мозолевський 1990: 127—131). Позже цепочка из 4 «среднесарматских» курганов царского ранга I в. н.э. размещалась через промежутки в 2—3 км по линии СЗ-ЮВ вдоль границы с поймой Дона в его устье, к востоку от г. Азов (Яценко 2016: 280, рис. 2).
Вып. 8. 2016
и элитарных участков в некрополях ранних кочевников Степи
Что касается чисто элитарных некрополей сюнну-сарматского времени , то картина выглядит иначе. Мы не найдем таковых даже среди памятников знаменитых «кочевых империй» той эпохи: среди якобы «элитных» могильников сюнну, а также у сяньби, усуней и кангюйцев. Крайне редкие случаи чисто элитарных некрополей известны пока только у сарматов, причем лишь в ближайших окрестностях пограничного боспорского города Танаис в устье Дона. Речь о двух небольших курганных могильниках в 3 и в 7 км от города по обеим сторонам крупной Каменной Балки. Сарматские курганы здесь, как чаще всего бывает, располагались среди более ранних и находились в зоне распашки. Оба могильника очень важны тем, что они в соответствующий сарматский период своего функционирования явно состояли только из погребений знати (правда, не самого высокого ранга). В обоих случаях сарматские курганы конкретной кочевой общины были размещены в цепочку (в Царском — с разрывом между двумя ее частями). В обоих некрополях нам известна эмблема-тамга двух оставивших их кланов, изображенная на деталях парадной мужской конской упряжи. В количестве основных погребальных сооружений здесь, видимо, присутствовала магия священных чисел (5, 7, 12).
Один из них — некрополь среднесарматской культуры (рубеж н.э. — сер. II в. н.э.) Царский с индивидуальными 12 курганами для взрослых, специальным курганом для детей на южном краю и ритуальной площадкой (имевшей ныне вид кургана) в северной части (рис. 6) (Ильюков 2004: рис. 1; Яценко 2016c: 277, рис. 1, 2). Насыпи образовывали две семейных группы (южная с 7 курганами взрослых и северная с 5 курганами). Несмотря на разграбление в древности всех курганов взрослых, в них сохранился достаточно богатый инвентарь. В южной группе были два уникальных по форме и самых высоких в некрополе кургана (овальный мужской курган 41 на основе досыпанного скифского и квадратная конструкция из камня — курган 34 у женщины — вероятных супругов 30—40 лет), окруженных женскими курганами 34 и 46; севернее их находилась линия из трех курганов мужчин 25—35 лет. В южной группе подкурганное святилище окружали два кургана молодых мужчин около 20 лет, замыкали ее с севера два женских кургана.
Другой некрополь устья Дона позднесарматской (ранней стадии, сер. II — сер. III вв. н.э.) культуры — могильник Валовый I (5 курганов, расположенных в цепочку через почти равные промежутки) (рис. 7) (Безуглов, Глебов 2009: рис. 1; Яценко 2016c: 277—279, рис. 1: 1 ). Планировка этого элитарного некрополя имеет выраженную гендерную симметрию . Здесь было поровну (по три) мужчин и женщин; пять из них были с деформированными черепами и похоронены в подбоях. Грабители действовали избирательно: все женские могилы (с золотыми вещами) остались нетронутыми, а двое из трех мужчин были ограблены ради парадных узды и оружия. В центре находился самый высокий курган 4, досыпанный на базе раннесарматского и окруженный ровиком с тризной. Вначале здесь был похоронен мужчина — самый значимый персонаж а некрополе; затем на периферии кургана была погребена женщина (супруга?). Курган основной пары окружали два кургана женщин возраста 25—35 лет; дальние края некрополя образовывали два мужских кургана.
Важное значение для понимания взаимоотношений этих двух определимых на сегодня знатных кланов — соседей Танаиса с горожанами имеют родовые знаки-тамги в Царском и в Валовом I (тем более, что именно в Танаисе найдена самая большая для Северного Причерноморья коллекция плит со скоплениями-«энциклопедиями» таких знаков, фиксирующих некие договоры греческой верхушки Танаиса и представителей сарматских кланов; последние, видимо, сопровождались клятвой, когда знак ставился участниками вместо личной подписи). Тамга, идентичная образцу из Царского (рис. 6), известна на ранних монетах царей Хорезма, а на рубеже н.э., — на железной детали конской упряжи (ст.
Вып. 8. 2016
Воздвиженская, курган 1 т.н. зубовско-воздвиженской группы на Средней Кубани) (Яценко 2001: рис. 8: 8, 12 ). Знак из Валового I представлен на таком знаменитом скоплении тамг, как ольвийский лев № 1, где он гравирован на самом выгодном месте — практически в центре скопления тамг) (Драчук 1975: табл. XLIV, квадрат 41). Оба знака влиятельных кланов при этом парадоксально отсутствуют в соседнем Танаисе (даже на единичных мелких артефактах); это означает, что верхушка этих двух групп (знатных, но далеких от «царского» ранга) по каким-то причинам не видела необходимости в своем активном присутствии в находящемся буквально в шаговой доступности греческом городе (бывшем, к тому же, одним из крупнейших торговых центров Северного Причерноморья).
В целом известные чисто элитарные некрополи европейской Степи и Северного Кавказа тяготели к районам поселений оседлых иноэтничных соседей. В Центральной Азии они встречены у небольших речек (Саяно-Алтай) или на летних высокогорных пастбищах (внутренний Тянь-Шань).
Рассмотрим теперь некрополи, имевшие, кроме серии малых курганов, выраженный элитарный участок . В небольшой статье я, естественно, не претендую на то, чтобы показать все основные варианты его планиграфии в разных культурах ранних кочевников и ограничусь серией показательных примеров.
Одним из наиболее интересных в этом плане можно считать некрополь Переволочан I в Зауральской Башкирии (Сиротин 2016: рис. 1, 2) (рис. 8). На 1974 г. имелись 12 относительно крупных курганов; однако эта территория интенсивно распахивалась, и здесь наверняка имелись первоначально еще и малые курганы. С.В. Сиротин выделил за столетие существования могильника три хронологических и культурных этапа. На первом из них (втор. пол. V в. до н.э.) курганы (1, 4, 7, 8) были еще относительно невелики и имели на поздней пахоте высоту около 0,5 м; они размещались в центре будущего некрополя и включали сожженные на древнем горизонте деревянные конструкции и останки умерших (в кургане 8 их было около 10 человек). На поздней стадии (втор. пол. IV в. до н.э.) курганы 3, 10, 11, 12 имели куда большие размеры (высота от 2,2 до 5 м) и содержали дромосные и подбойно-катакомбные могилы; три самых крупных из них образуют ряд строго по линии ЗВ и размещены на северо-восточном краю. В промежутке (видимо — в перв. пол. IV в. до н.э.) здесь соорудили еще 4 кургана (2, 5, 6, 9) со смешанными (переходными) традициями, расположенные по юго-западному краю. В целом IV в. до н.э. предстает здесь как время постепенного распространения традиций памятников круга Филипповки. В каждый из трех периодов в некрополь добавляли по 4 кургана, пока он не достиг «предела накопления» -священного числа 12 . Собственно аристократический участок появился здесь на поздней стадии вместе с самыми высокими курганами.
Еще один пример — известный некрополь Пазырык (датируемый разными авторами в пределах V—III вв. до н.э.) в горах Северного (Российского) Алтая (Руденко 1953: рис 2) (рис. 9: 1 ). Здесь исследованы, в первую очередь, пять самых крупных, эффектных курганов 1—5, а множество окружавших их мелких не привлекли внимания. Поминальные каменные выкладки (не менее 20, сильно заросшие травой) размещались здесь у западного края. Некрополь разбит на три участка, размещенных на небольших мысах: центральный (большие курганы 1—2 и шесть малых), северный (большие курганы 3—4 и семь малых) и южный (расположенный заметно ниже единственный большой курган 5 и восемь малых). Отчасти сходную картину обнаруживаем в другом могильнике пазырыкской культуры — Боротал I у реки Чуя (рис. 9: 2 ). Здесь есть три системообразующих больших кургана (основная часть малых расположена двумя цепочками между центральными курганами 7 и 64). Есть
Вып. 8. 2016
и элитарных участков в некрополях ранних кочевников Степи несколько малых курганов вокруг южного большого кургана 1 и вокруг самого крупного на северном краю кургана 98 (Кубарев, Шульга 2007: рис. 2).
Важны для нас и материалы крупных могильников сюнну в Монголии. К сожалению, их качественные и детальные планы пока недоступны. Речь идет в первую очередь, о четырех самых больших некрополях, включенных в 2014 г. в список Всемирного наследия ЮНЕСКО9. Ценны наблюдения С. С. Миняева по одному из трех участков Нойон Ул / Ноин-Улы — курганном скоплении в пади Судзуктэ (помимо нее, там имеются Гуджиртэ и Цзурумтэ) . К сожалению, приведенный автором чертеж очень малого формата, весьма примитивен и не отражает реальные размеры курганов, используя условные значки одного размера (рис. 10: 2 ). Приходится надеяться на его устные описания (Миняев 1985: 21—26, рис. 1: 1 ). Нойон Ул / Ноин-Ула в целом размещен на северных невысоких горных склонах и разделен ручьями на три части. В Судзуктэ (как и в соседней Гуджиртэ) группы курганов в каждом случае тоже разделены на три участка , в первом случае — с примерно равным количеством курганов. Думается, это отражает популярную тройственную структуру многих групп ранних кочевников на разных уровнях (в данном случае — на уровне клана). Здесь представлены как крупные, так и малые курганы (группы последних иногда разделены несколькими сотнями метров). Группы больших курганов встречены (в каком порядке?) только на центральном и восточном участках Судзуктэ (на западном есть лишь один такой курган).
Обратимся теперь к курганным могильникам Южного Казахстана эпохи раннего железа. Они главным образом, являются чисто сакскими (наличие более ранних курганов здесь — большая редкость), много реже кангюйскими или усуньскими. Привлечение материалов этого региона (Жамбыльской и Южно-Казахстанской / Шымкентской областей) важно по нескольким причинам. Во-первых, по этим территориям давно изданы хорошие своды памятников на основе сплошного обследования, с детальным описанием (и обычно -схемами) всех выявленных могильников (СПИКРК ЖО; СПИКРК ЮКО). Во-вторых, для этого региона характерны малые площади вспашки, ирригации и застройки, сохранение природных ландшафтов при обычно невысокой растительности. В-третьих, здесь преобладают курганы с хорошо сохраняющейся каменной наброской и каменными конструкциями при курганах, которые позволяют уже визуально весьма надежно датировать многие комплексы.
В числе вариантов устройства элитарного участка на сакских могильниках предгорий Южного Казахстана обращает на себя внимание ситуация, когда некрополь состоит из двух параллельных цепочек курганов, вытянутых с юга на север; восточная цепочка в таких случаях состоит целиком (или почти целиком) из более крупных, элитарных курганов . Восточная сторона, таким образом, социально выделена. К памятникам этого типа в Жамбыльской области относятся Жетытобе, выявленный в 1861 г. (СПИКРК ЖО 168) (рис. 11: 1 ), Кисыксурат (СПИКРК ЖО 527) (рис. 11: 2 ) и Мерке 2 (СПИКРК ЖО 456) (рис. 11: 3 ).
В Жетытобе , датируемом V в. до н.э., (северные предгорья Каратау) крупные курганы 2 и 3 имеют кольцевые ограды, а в западной цепочке, кроме курганов с каменной наброской, встречены также круглые оградки и десятки мелких каменных выкладок; здесь сочетались ингумация и кремация умерших, встречаются курганы-кенотафы. Некрополь Кисыксурт находится у самого подножья Киргизского хребта, на береговой одноименной речки.
Вып. 8. 2016
Половина из 16 каменно-земляных насыпей была раскопана. Элитарные курганы здесь имеют высоту 1—2 м. В Мерке 2 (в предгорьях Киргизского хребта) в западной цепочке размещены 22 малых кургана и в восточной 7 курганов (6 из них большие и расположены в линию ЮВ-СЗ, высотой выше 3 м, самый высокий в центре имеет высоту 17 м; чуть в стороне от цепочки находится малый курган высотой 0,7 м).
Еще одна интересная схема элитарного участка представлена в некрополе, расположенном в 7 км к СЗ от с. Кенен (у верховий р. Колгуты Жамбыльской обл. (СПИКРК ЖО 354) (рис. 12: 1 ). Здесь также имеются две параллельных плотных цепочки из 25 каменно-грунтовых курганов и 8 кольцевых оград. В одной из них крупные курганы (4, высотой 1—1,5 м) сконцентрированы на северо-восточном краю, а на другой — одиночные по краям (отступив около 50 м). Не менее оригинален подход к размещению крупных курганов в некрополе, расположенном у с. Карасай Батыр / Михайловка (СПИКРК ЖО 316) (рис. 12: 2 ). Здесь в двух цепочках разной длины из 26 курганов и 4 кольцевых оград самые крупные курганы (высотой до 2 м) размещены на определенном (нижнем) уровне склона сопки к пересыхающему ручью. То, что это не случайно, показывает планировка некрополя № 479 в Сузакском районе Южно-Казахстанской обл. (СПИКРК ЮКО 479). Здесь 35 курганов образовывали три цепочки у края террасы родника. Здесь мы также видим, что чем ближе вниз, к роднику, тем крупнее размер курганов .
Близка приведенным южноказахстанским планировка пазырыкского некрополя Шибе на северном (Российском) Алтае (Баркова 1978: рис. 1) (рис. 13: 4 ). Но здесь картина сложнее: западная цепочка делится на три секции, причем в северной оконечности двух южных есть по 1—2 довольно крупных кургана; основную восточную цепочку окружает множество мелких курганов
Рассмотрим теперь осевое размещение элитарных курганов в могильнике. Одним из примеров такого рода можно считать центральную часть обширного (из примерно 300 курганов) некрополя разных культур Высочино I, II, V , у устья Дона, на водоразделе Дона и Кагальника, где встречены компактные средне- и позднесарматские серии (рис. 13: 1 ). Этот могильник активно распахивался, и уточнить статус умерших во многом помог состав сохранившегося инвентаря. В позднесарматском некрополе рубежа II—III вв. н.э. ограблена лишь половина из 12 курганов. Здесь центром, вокруг которого формировался некрополь, можно считать цепочку из 4 аристократических курганов (за одним исключением — женских; здесь вообще женщин существенно больше, чем мужчин — 8:3; две из трех аристократок при этом были воительницами). Каждый из этих элитных курганов отличался оригинальной погребальной конструкцией (катакомба, подбой, яма и скопление на древней дневной поверхности). Особую роль здесь занимал самый высокий и восточный женский курган 12 гр. II. Единственный мужской аристократический курган 16 гр. V являлся кенотафом (с парадным оружием, уздой и богатой тризной) (Яценко 2016b: 73—75, рис. 1— 2). Три из четырех значимых курганов не имели рядом малых «рядовых»; лишь у западного женского кургана 18 гр. V размещались два кургана и еще два — восточнее (среди этих курганов — два детских).
Другой образец осевого размещения больших курганов в некрополе — некрополь Молалы I Жамбыльской обл., на холме у берега одноименной речки (СПИКРК ЖО 477) (рис. 13: 2 ). Его ядром являлась линия из трех крупных курганов высотой около 4 м ориентированная на юг-север. К двум из них примыкают 6 малых курганов высотой около 0,5 м.
Еще одним примером такого рода может служить центральная группа Б-2 скифского некрополя IV—III вв. до н.э. на горе Беш-Оба в Восточном Крыму, рядом со скифской же
Вып. 8. 2016
и элитарных участков в некрополях ранних кочевников Степи крепостью Ак-Кая (Колтухов, Мыц 1998: 102—104, рис. 1) (рис. 13: 3). Здесь пять высоких курганов (I — высотой 7,5 м, I/1 — 3 м, II — 8 м, III — 10 м, IV — 9 м) образовывали цепочку длиной около 2 км на отдельных небольших вершинах вдоль южного края горы Беш-Оба. Каждый из крупных курганов окружали по нескольку малых (всего последних было 26); более всего их было вокруг самого высокого кургана III.
Иногда несколько элитных больших курганов размещались на одном из краев могильника (чаще северном). Для ряда некрополей Южного Казахстана (Жамбыльская обл.) это три больших кургана на северном (удаленном от гор) краю цепочки . Это Мынкайнар 2 , (СПИКРК ЖО 745) Свода (рис. 14: 1 ), Уштобе (СПИКРК ЖО 253) (рис. 14: 2 ) и Даусай 3 (СПИКРК ЖО 759) (рис. 14: 3 ). Все их курганы имеют грунтовые насыпи. Первый из них занимал вершину скального гребня у верховьев небольшой речки в отрогах Киргизского хребта и состоял из 8 курганов; самые крупные из них имели высоту 1—1,5 м, тогда как малые — всего 0,3—0,5 м. Могильник Уштобе из девяти насыпей частично распахан. Высота его крупных курганов и при распашке составляла 1,5—2 м. В некрополе Даусай 3 расположен на вершине горной террасы на водоразделе и состоял из 16 курганов (самые крупные из которых достигали 2 м высоты и 30 м в диаметре). Три самых высоких кургана мы видим на северном краю некрополя и в Переволочан I (рис. 8). Другой вариант представлен в усуньском некрополе Кадырбай 2 в Семиречье (28 насыпей): здесь на северном краю цепочки концентрируются пять больших курганов (среди которых на этом участке находятся еще и 7 мелких) (Досымбаева 2007: таб. 27). В восточном Синьцзяне, в могильнике Цзяохэ /Гоубэй (у городища Цзяохэ к западу от г. Турфан) 4 самых крупных кургана с подбойными могилами также образовывали цепочку по линии В-З на северном краю комплекса (Шульга 2010: 82—92, рис. 60). В Скифии, на днепровском лесостепном Левобережье в урочище Стайкин Верх в 1870-х гг. фиксировались около 300 малых и 13 больших курганов. Последние (7 из сохранившихся ныне 9) концентрировались в юговосточной части мыса, образованного правым берегом р. Хмелевка (Колтухов, Мыц 1998: 105—106).
В ряде ситуаций мы можем вполне уверенно полагать, что две параллельных цепочки крупных курганов становились основой для появления маленьких курганов вокруг и небольшой цепочки малых насыпей между двумя основными. Так было, например, в некрополе пазырыкской культуры Балык-Соок , расположенном на стыке речек Урсул и Курота, на остепненной террасе, довольно далеко от края заболоченной поймы (Кубарев, Шульга 2007: рис. 33) (рис. 15).
Встречают также случаи, когда элитные курганы размещались в центре цепочки или скопления. В Джамбыльской обл. так было, например, в самом крупном сакском некрополе Южного Казахстана Берккара (более 500 курганов с каменной наброской), где это наблюдалось в каждой из нескольких параллельных цепочек (расположенных поперек линии предгорий Каратау, у южного берега озера Бийликоль) (СПИКРК ЖО 256). Здесь такие большие курганы достигали высоты 6—7 м. В центре скопления из 18 грунтовых курганов находились три крупных кургана высотой до 3,5 м в могильнике Жалпаксаз (СПИКРК ЖО 750). То же можно сказать о ряде некрополей прилегающей с запада Южно-Казахстанской области. В Сузакском районе (к северу от Сырдарьи) в кангюйском некрополе рубежа — первых веков н.э. (СПИКРК ЮКО 501) на высокой террасе р. Ушбас, в стройной цепочке из 46 курганов, ориентированной С-Ю, три больших кургана высотой 1,5—2 м находились в ее центре. В кангюйском некрополе Актобе I—II вв. н.э. в Чардаринском районе (СПИКРК ЮКО 690) в центре могильника, состоявшего из трех несколько аморфных групп, также находились три больших кургана.
Вып. 8. 2016
Представляет интерес также схема размещения немногих аристократических могил в самом большом сарматском некрополе Новый на р. Сал (донское Левобережье) с его 197 курганами среднесарматской культуры. Он состоял из основной, нестройной цепочки, вытянутой по линии С-Ю поперек поймы Сала, и двух небольших скоплений семейных групп с запада и востока (отгороженных от основной цепочки оврагами), прилегающих к этой пойме (Яценко 2016a: 313—317, рис. 2). Любопытно развитие схемы размещения местной знати на двух этапах заполнения некрополя. На раннем этапе (около рубежа н.э., когда курганное кладбище функционировало наиболее активно, но в жизни населения данной общины видны многочисленные следы военно-политической нестабильности) здесь выявлены 3 кургана с погребениями аристократов (фиксируемые во многом по облику инвентаря), расположенные на его основной оси. Это мужские курганы — с молодыми мужчинами около 20 лет 67/погр. 4 и 70/погр. 5 в ее центре и с пожилым в ее южной части (курган 46/погр. 4). На втором этапе (I — нач. II вв. н.э.), который отражает более стабильные условия существования группы, количество таких аристократических могил заметно увеличилось (8). Вплотную к двум прежним мужским курганам к северу построили два кургана для молодых женщин 20—25 лет (71 и 77). Максимальное же «приращение» наблюдаем в южной (наиболее далекой от реки) группе (12, 20, 27, 42, 43): здесь появились два соседних кургана возможных супругов 20—25 лет (42, 43), две могилы молодых женщин 17—25 лет (курган 12 /погр. 4; курган 28/погр. 1) и одна — зрелого мужчины 35—40 лет (курган 20/погр. 2). Характерно, что курганы с такими элитарными могилами образуют как бы кайму по краям этого весьма плотного участка позднего кладбища и отсутствуют в его центре.
Итак, я ограничился здесь анализом ряда характерных моделей организации пространства как чисто элитарных некрополей, так и элитарных сегментов родовых кладбищ. В большинстве случаев коллеги сталкиваются с иной ситуацией — с разрушением значительной части некрополя (как древними и современными грабителями, так и современными пахарями и строителями), отсутствием надежных сведений даже о недавнем его облике и т.п. Приводимые здесь яркие и относительно простые варианты планиграфии, возможно, отчасти помогут анализировать и другие, более сложные случаи или могильники фрагментарной сохранности.
Список литературы О планировке элитарных некрополей и элитарных участков в некрополях ранних кочевников степи
- Баркова Л. Л. 1978. Курган Шибе и вопросы его датировки. АСГЭ 19, 37-44.
- Безуглов С. И., Глебов В. П., Парусимов И. Н. 2009. Позднесарматские погребения в устье Дона (курганный могильник Валовый I). Ростов-на-Дону: Медиа-Полис.
- Бутягин А. М., Виноградов Ю. А. 2014. Курганный некрополь аристократии Боспора. Т. II. Курганы на мысе Ак-Бурун. Керчь, Симферополь: Крымское отделение Института востоковедения; БФ «Деметра».
- Бутягин А. М., Виноградов Ю. А. 2016. Курганы на мессе Ак-Бурун и особенности формирования боспорской элиты в V-IV вв. до н.э. B: Зуев В. Ю., Хршановский В. А. (отв. ред.). Элита Боспора и боспорская элитарная культура. Материалы международного Круглого стола (Санкт-Петербург, 22-25 ноября 2016 г.). Санкт-Петербург: ПАЛАЦЦО, 106-112.
- Галанина Л. К. 1997. Келермесские курганы. Москва: Палеограф.
- Досымбаева А. М. 2007. Культурный комплекс тюркских кочевников Жетысу II в. до н.э. -V в. н.э. (по материалам археологии). Алматы: Тюркское наследие.
- Драчук В. С. 1975. Системы знаков Северного Причерноморья. Киев: Наукова думка.
- Ильюков Л. С. 2004. Сарматские курганы окрестностей Танаиса (могильник «Царский»). Вестник Танаиса 1, 198-214.
- Колтухов С. Г., Мыц В. Л. 1998. Топография и хронология курганного могильника Ак-Кая. Культура народов Причерноморья 5, 99-108.
- Кубарев В. Д., Шульга П. И. 2007. Пазырыкская культура (курганы Чуи и Урсула). Барнаул: РАН.
- Медникова М. Б. 2000. Жизнь ранних скифов: реконструкция по антропологическим материалам могильника Новозаведенное II. Скифы и сарматы в VII-III вв. до н. э. Палеоэкология, антропология и археология. Москва: ИА РАН, 51-58.
- Миняев С. С. 1985. К топографии курганных памятников сюнну. КСИА 184, 21-26.
- Мозолевський Б.М. 1990. Кургани вищоï скифськоï знатi i проблема полiтичного устрою Скiфiï. Археологiя 1, 122-138.
- Петренко В. Г. 2006. Краснознаменский могильник. Элитные курганы раннескифской эпохи на Северном Кавказе. Степные народы Евразии 3. Corpus tvmvlorvm scythicorvm et sarmaticorvm I Москва; Берлин; Бордо: Палеограф.
- Полосьмак Н. В., Богданов Е. С., Цэвэндорж Д., Эрдэнэ-Очир Н. 2008. Изучение погребального курганного сооружения кургана 20 в Ноин-Уле (Монголия). Археология, этнография и антропология Евразии 2(34), 77-87.
- Руденко С. И. 1953. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. Москва; Ленинград: АН СССР.
- СПИКРК ЖО: Свод памятников истории и культуры Республики Казахстан. Жамбылская область. 2002. B: Байпаков К. М. (отв. ред.). Алматы: Дайк-пресс.
- СПИКРК ЮКО: Свод памятников истории и культуры Республики Казахстан. Южно-Казахстанская область. 1994. B: Нуралиев Р. Н. (отв. ред.). Алматы: Академия наук Республики Казахстан.
- Силантьева Л. Ф. 1959. Некрополь Нимфея. МИА 69, 5-107.
- Сиротин С. В. 2016. Об относительной хронологии и датировке могильника Переволочан I. B: Яблонский Л. Т., Краева Л. А (отв. ред.) Константин Федорович Смирнов и современные проблемы сарматской археологии. Материалы IX Международной научной конференции «Проблемы сарматской археологии и истории» (Оренбург, 12-15 мая 2016 г.). Оренбург: ОГПУ, 253-264.
- Тишкин А. А. 2012. Значение археологических исследований крупных курганов скифо-сарматского времени на памятнике Бугры в предгорьях Алтая. B: Blajer W. (ed.). Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Khokhorowki dedicatae. Krakow: Profil-Archeo, 501-510.
- Черных Л. А., Дараган М. Н. 2014. Курганы эпохи энеолита-бронзы междуречья Базавлука, Соленой, Чертомлыка. Киев; Берлин: Олег Филюк.
- Шульга П. И. 2010. Синьцзян в VIII-III вв. до н.э. (Погребальные комплексы. Хронология и периодизация). Барнаул: АлтГТУ.
- Щеглов А. Н., Кац В. И., Смекалова Т. Н., Беван Б. 2013. Курганы скифской знати в западном Крыму. Материалы к археологической карте Крыма XI. Симферополь: Феникс.
- Яценко С. А. 2001. Знаки-тамги ираноязычных народов древности и раннего средневековья. Москва: Восточная литература.
- Яценко С. А. 2016a. К изучению планиграфии крупных сарматских некрополей. B: Яблонский Л.Т., Краева Л.А (отв. ред.) Константин Федорович Смирнов и современные проблемы сарматской археологии. Материалы IX Международной научной конференции «Проблемы сарматской археологии и истории» (Оренбург, 12-15 мая 2016 г.). Оренбург: ОГПУ, 311-319.
- Яценко С. А. 2016b. К изучению планиграфии курганных могильников позднесарматского времени. Stratum plus 4, 69-90.
- Яценко С. А. 2016c. Сарматская элита у границ Боспора I-III вв. н.э. B: Зуев В. Ю., Хршановский В. А. (отв. ред.). Элита Боспора и боспорская элитарная культура. Материалы международного Круглого стола (Санкт-Петербург, 22-25 ноября 2016 г.). Санкт-Петербург: ПАЛАЦЦО, 276-282.
- Her.: Herodotus. 1921. The Persian Wars. Vol. II. B. 3-4. B: Godley A. D. (ed.). The Loeb Classical Library 118. London: William Heinemann Ltd.; New York: G. M. Putnam’s Son.
- whc.unesco.org: 1: Funeral Sites of the Xiongnu Elite. URL: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5951/(дата обращения: 21.12.2016).