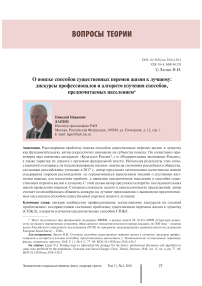О поиске способов существенных перемен жизни к лучшему: дискурсы профессионалов и алгоритм изучения способов, предпочитаемых населением
Автор: Лапин Николай Иванович
Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc
Рубрика: Вопросы теории
Статья в выпуске: 4 т.11, 2018 года.
Бесплатный доступ
Рассматривая проблему поиска способов существенных перемен жизни к лучшему как фундаментальную, автор сосредоточил внимание на субъектах поиска. Он сопоставил ориентиры двух значимых дискурсов: «Куда идет Россия?..» и «Модернизация экономики России», а также характер их диалога с органами федеральной власти. Используя результаты этих сопоставлений и опираясь на подытоживающие оценки-диагнозы состояния российского общества, сделанные российскими учеными в 2017 г., автор предлагает методологию качественно нового содержания опросов респондентов: не ограничиваться выяснением мнений о состоянии жизненно важных для населения проблем, а выявлять предпочтения населения о способах существенных перемен жизни к лучшему. С этой целью автор предложил алгоритм последовательных шагов проведения опросов. Сознавая сложность задачи и дискуссионность предложений, автор считает целесообразным объявить конкурс на лучшие предложения о выявлении предпочитаемых населением способов существенных перемен жизни к лучшему.
Дискурс-сообщество профессионалов, сопоставление дискурсов по сходной проблематике, несправедливое состояние проблемы, существенная перемена жизни к лучшему (спжл), алгоритм изучения предпочитаемых способов спжл
Короткий адрес: https://sciup.org/147224944
IDR: 147224944 | УДК: 316.4 | DOI: 10.15838/esc.2018.4.58.5
Текст научной статьи О поиске способов существенных перемен жизни к лучшему: дискурсы профессионалов и алгоритм изучения способов, предпочитаемых населением
Поиск способов существенных перемен жизни общества и всего населения к лучшему – фундаментальная проблема функционирования и регулирования демократически организованного общества. Ее рассмотрение следует начинать не с содержания искомых способов и их моделей, а с выяснения субъектов, которые предлагают вниманию общественности и органов управления свое понимание реалий и способы их перемен. Круг потенциальных субъектов таких поисков в современном обществе обширен. В самом общем виде это органы государства и структуры гражданского общества, которые взаимодействуют в диалоговом режиме.
В настоящей статье я сосредоточиваю внимание на ограниченном круге субъектов, причастных к поиску способов существенных перемен жизни общества и всего населения России к лучшему. На примере двух профессиональных дискурс-сообществ, интеллектуально значимых для всего постсоветского этапа, я постараюсь сопоставить их содержательные ориентиры и характер их диалога с органами федеральной власти, затем представить оценки-диагнозы состояния и перспектив российского общества, сделанные учеными в «юбилейно-революционном» 2017 году и предложить алгоритм эмпирического изучения предпочитаемых населением способов существенных перемен жизни к лучшему.
Возникновение проблемно-ориентированных дискурс-сообществ профессионалов-обществоведов составляет одну из примет развития гражданского общества в постсоветской России. Начиная с перестройки, у граждан России повышается уровень критического отношения к реалиям жизни и возникает много вопросов «снизу», на которые нет ответов «сверху». В том числе вопросов от компетентных специалистов-ученых, для которых выявление вопросов и поиск ответов составляют смысл профессиональной деятельности. В результате процессов самоорганизации граждански ответственных профессионалов, работающих в различных областях знаний о человеке и его сообществах, появились интеллектуально значимые сетевые структуры гражданского общества. Полуформальные «невидимые колледжи» возникают на разных «площадках»: при университетах, научно-исследовательских организациях, науч- ных журналах и иных формальных структурах, которые поддерживают инициативы работающих в них интеллектуалов, – от федеральных структур (в Москве и Санкт-Петербурге) до региональных (в Екатеринбурге, Тюмени, Курске и других центрах). Материалы этих дискурсов обычно публикуются в сборниках и научных журналах, что расширяет их интеллектуальное влияние за круги непосредственных участников дискурсов. Содержание таких дискурсов, как и гражданские смыслы деятельности дискурс-со-обществ профессионалов, заслуживают специальных исследований, особенно продуктивных на основе сравнительного подхода.
Характер двух дискурсов обществоведов об изменении российского общества
Наиболее известными и влиятельными стали два дискурс-сообщества: (1) ежегодный Международный симпозиум по значимому для всех россиян вопросу «Куда идет Россия?..», который существовал в 1993–2003 годах на площадке Интерцентра – Междисциплинарного академического центра социальных наук, и (2) высокоактуальный дискурс «Модернизация экономики России», проходивший в основном в 2003–2010 годах в рамках международных конференций ГУ-ВШЭ (НИУ-ВШЭ), которые с 2000 г. ежегодно проводятся в апреле (в обиходе их называют апрельскими). Как видно из названий этих дискурсов, их предметы различаются. Тем не менее, по существу их проблематика во многом сходна: в том и другом случае речь идет о понимании смыслов и способов изменений в постсоветской России – ее обществе, экономике и политике. Поэтому они могут стать предметом сопоставлений, особенно когда обсуждаются тенденции и ориентиры изменений на макроуровне. Учитывая формат статьи, я буду ссылаться преимущественно на позиции организаторов-координаторов двух дискурсов.
Симпозиум «Куда идет Россия?..» организовала академик Т.И. Заславская. Всего состоялись десять симпозиумов, на которых достаточно последовательно были рассмотрены основные проблемы, относящиеся к сквозной теме-вопросу. При подведении итогов десятилетнего цикла их организатор вспоминала: «Первый симпозиум Интерцентра состоялся в декабре 1993 г. – через два месяца после обстрела «Белого дома» и буквально через несколь- ко дней после драматического поражения демократов на выборах в Государственную Думу. Россия находилась тогда в «точке неопределенности», которая могла открыть траектории, ведущие в принципиально разные стороны. «Колебание весов истории» ощущали широкие круги общества. Миллионы россиян задавались вопросом: что же все-таки происходит в России? Кто, на каких основаниях и в чьих интересах перераспределяет власть и собственность?.. Каких изменений следует ожидать в ближайшем и более отдаленном будущем?» [1].
В симпозиумах приняли участие признанные специалисты в области экономики, социологии, истории, политических наук и других отраслей знания, преимущественно из России, но также из США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, других западных стран, коллеги из Армении, Белоруссии, Украины и других стран СНГ. Куда же, по их экспертным оценкам, пришла Россия через 10 лет? Конечно, выявился весьма широкий диапазон оценок, среди которых есть и моя, как участника ряда симпозиумов. Я думаю, в целом Т.И. Заславская сумела резюмировать оценки большинства участников этого дискурс-сообщества: «В итоге сегодня мы имеем социально расколотое общество со слабо развитым средним слоем и депривированной, в значительной мере люмпенизированной основной массой граждан… На одном полюсе общества сосредоточился класс наемных работников, практически лишенных частной собственности, а на другом – класс собственников и распорядителей капитала как самовозрастающей собственности… Чтобы переломить эту тенденцию, добиться гармонизации социальной структуры и эффективного использования сохранившегося человеческого потенциала, есть только одно средство – осуществить новый, социально ориентированный цикл институциональных и структурных реформ … Речь идет о социально-демократических реформах» [2].
Такими стали научно-гражданские ориентиры данного дискурс-сообщества профессионалов относительно способов изменения жизни к лучшему. Они сформировались в результате их глубоких вопросов о постсоветской трансформации России и поисков научно обоснованных ответов. Вопросы и ответы содержали немало обоснованной критики и конструктив- ных предложений, адресованных правящим органам России, всему ее политическому классу. Однако от адресатов не поступали отклики ни на вопросы, ни на ответы. Диалог дискурс-со-общества и органов власти не возник. Добавлю, что не возник диалог с органами власти и у формально организованных профессионалов, работающих в Российской академии наук. Опираясь на обоснованные выводы о пагубности приватизации 90-х годов ХХ в., которая проходила спонтанно, но под флагом рыночной реформы, и сознавая необходимость целеориентированной стратегии преобразований, ученые Отделения экономики РАН в сентябре 1998 г. в открытом письме Президенту, Федеральному Собранию и Правительству РФ заявили: «Самый большой изъян реформы состоит в том, что она утратила целевую ориентацию. Потерян ее смысл и конечная цель. А когда нет цели, то нельзя добиться и успеха» [3]. Однако ответ «сверху» не последовал. Правда, покидая вскоре пост Президента РФ, Б.Н. Ельцин попросил прощения у россиян за ошибки, но не уточнил, за какие именно.
Иное отношение проявили федеральные органы власти к другому дискурс-сообществу, возникшему в 2000 г. в рамках ранее названных апрельских конференций ГУ-ВШЭ (НИУ-ВШЭ). Эти конференции открыто поддерживаются Правительством РФ, Всемирным банком, Международным валютным фондом, фондом «Бюро экономического анализа» и утвердились в качестве основной дискурсивной площадки либерально-прагматического направления российской экономической науки. Они организуются под председательством экс-министра экономики РФ (1994–1997), президента фонда «Либеральная миссия» научного руководителя ГУ ВШЭ, профессора Е.Г. Ясина. В них непосредственно участвуют вице-премьеры, министры Правительства России, большое число российских экономистов и представителей смежных дисциплин, представители названных международных организаций, видные зарубежные экономисты.
Как выше отмечено, эти конференции стали проводиться по теме «Модернизация экономики России» с 2003 г., т.е. через 10 лет после начала шоковой реформы, когда в основном завершился революционный этап преобразований российской экономики и общества и начи- нался новый этап – крупномасштабная модернизация. Конференция 2003 г. была посвящена «итогам и перспективам» этих преобразований, которые назывались модернизацией. В основном докладе Е.Г. Ясин сказал: «Смысл структурной перестройки или модернизации понятен: перестроить советские предприятия в рыночные компании, поменять оборудование, внедрить самые передовые технологии во всех отраслях, освоить продукцию, конкурентоспособную в стране и на мировых рынках, а для этого – резко поднять производительность и эффективность, снизить издержки, подготовить кадры, способные решать эти задачи. И так в каждой компании» [4].
В отличие от симпозиума Интерцентра, на конференциях ГУ-ВШЭ редко встречался термин «трансформация», вместо него использовался термин «модернизация». Вместо вопроса «куда идет Россия?» преобладали практически ориентированные вопросы о способах изменений, формулировались задачи дальнейшей либерализации и дебюрократизации новых структур и отношений, по сути, рационализации хаотично возникших в обществе экономических и иных отношений.
Содержание проблем, которые обсуждались на апрельских конференциях ГУ ВШЭ, нередко было сходным с конференциями в Интерцентре, а некоторые специалисты активно участвовали «тут и там». Несмотря на это, дискуссии на каждой площадке велись в духе «политкорректности» – как бы в неведении о позициях своих оппонентов, действовавших на другой площадке, почти без рассмотрения их аргументации. Хотя нередко возникали внутренние дискуссии – в рамках «своего круга», между специалистами, работающими на одной площадке (такие дискуссии культивировались в Интерцентре и поддерживались в ГУ ВШЭ).
Показательно различие позиций между сообществами двух площадок по проблеме соотношения формальных институтов и реальных практик. В настоящей статье я ограничусь сопоставлением позиций лидеров площадок. Инициатива обсуждения названной проблемы оказалась на площадке Интерцентра (в 2002 году). В исходном докладе, с которым выступила Т.И. Заславская, центральным стал вопрос о социальных факторах расхождения формально-правовых норм и реальных практик. Была предложена комплексная схема социального механизма распространения неправовых практик. В этом механизме, среди многих факторов противоправного поведения чиновников в отношениях с бизнесом, ключевое значение имеют частные интересы чиновников среднего звена. Их побудительным мотивом служит тот факт, что «в России трансакционные издержки неформального решения проблем существенно ниже, чем следование формальным нормам… Правовой аспект либеральных реформ требовал от политиков особенно большого внимания, но об этом не подумали или не придали этому должного значения. В результате противоправная деятельность россиян, прежде таившаяся в затененных, относительно закрытых углах, вырвавшись на свободу, вспыхнула как пожар, охватив едва ли не все общество» [5].
В 2005 г. аналогичному кругу проблем была посвящена 6-я апрельская конференция ГУ ВШЭ. Ее открыл большой доклад коллектива авторов, устно представленный Е.Г. Ясиным. Обосновывая тему конференции, авторы доклада отметили: «Сегодня перед нами стоит фундаментальный вопрос о том, почему столь многие институциональные реформы (в том числе вполне разумные по своему замыслу) не приводили к ожидаемому результату; почему они проваливались, не закрепляясь в деловых практиках, либо их последствия были весьма противоречивы и непредвиденны [6].
В заключительном разделе («Выводы: что надо поправить в политике?») докладчики отметили: «Создание стимулов и механизмов было одной из главных целей реформ во всех странах с переходной экономикой. Для российских реформаторов и их западных советников в начале 1990-х гг. был характерен расчет на то, что конкуренция будет привнесена вместе с внедрением рыночных механизмов и демократических институтов. При этом ставка была сделана на политику импорта институтов с ориентацией на «лучшие образцы», характерные для наиболее развитых стран. Однако на практике мы столкнулись с серьезным проблемами приживаемости таких институтов. Поскольку реформы в подавляющем числе случаев сводились к принятию пакета нормативных актов, соответствующие практики экономических акторов не изучались и не корректировались. Реформы шли (и до сих пор идут)
„от закона до закона”. Не обращая внимания на то, что происходит их систематическое игнорирование либо оппортунистическое использование экономическими акторами… Выход из ловушки слабого рынка и неэффективного государства сегодня для России, на наш взгляд, связан с переходом от политики заимствования к политике выращивания институтов – с постепенным внедрением и встраиванием в существующую систему механизмов и институтов, которые, в частности, стимулировали бы инновации в сохраняющейся неконкурентной среде» [7].
Таким образом, докладчики, хорошо знающие практические действия реформаторов, фактически подтвердили приведенный выше тезис Т.И. Заславской о том, что правовой аспект либеральных реформ требовал от политиков особенно большого внимания, но они об этом не подумали или не придали этому должного значения. При этом в их докладе отсутствовали оценки социальных последствий такой практики, а основное внимание было сосредоточено на способах «выращивания» институтов. В том числе предложены «два способа направленных институциональных изменений – облагораживание существующих институциональных образцов и культивирование новых образцов» [8].
Авторы доклада справедливо напомнили, что ранее сходную методологию, в терминах «трансплантации», предложил академик В.М. Полтерович [9]. На той же конференции он (в соавторстве) выступил с докладом, в котором подверг критике методологию Вашингтонского консенсуса, принятую российскими реформаторами: «Горький опыт явно продемонстрировал, что рекомендации Вашингтонского консенсуса нельзя рассматривать как универсальные рецепты», а результаты их применения во многих странах «выглядят обескураживающими» [10]. И заключил: «Проведенный анализ показывает, что инструменты и методы промышленной политики должны быть адекватны стадии развития экономики… Россия еще не выполнила задачи второй стадии и уже пытается проводить экономическую политику, характерную для третьей и четвертой стадии» [11].
В материалах конференции представлено также выступление Е.Т. Гайдара, который добавил свою ложку дёгтя: «Идея не заимствова- ния, а выращивания институтов – правильна. Но, на мой взгляд, решение этой задачи сложнее, чем представляется авторам» [12].
Я считаю, что основная сложность состоит в том, что «выращивание институтов» может стать эффективным лишь в рамках обоснованной стратегии институциональных изменений, которая предполагает формулирование ее основной социоэкономической цели.
В целом идею доклада поддержали выступавшие на конференции представители экономического блока Правительства РФ: вице-премьер А.Д. Жуков, министр экономического развития и торговли Г.О. Греф, министр финансов А.Л. Кудрин. Выразили свою поддержку также представители Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Как видим, эта дискуссионная площадка пользуется расположением Правительства РФ, ведущих международных финансовых организаций. Их представители непосредственно, лично участвуя в работе конференций, воспринимают выводы и рекомендации их участников, высказывают свои замечания. Это служит стимулом активной творческой работы участников, которого так недостает специалистам, не ощущающим заинтересованности государства в результатах их исследований.
О характере поддержки конференций ГУ ВШЭ Правительством РФ можно судить по таким оценкам вице-премьера А.Д. Жукова. «Прежде всего, я хотел бы поблагодарить организаторов конференции – Высшую школу экономики. Уже шестой год в Москве собирается столь серьезная аудитория, в которой участвуют ведущие российские и зарубежные эксперты. И по опыту предыдущих пяти конференций хочу сказать, что их результаты всегда важны для правительства и всегда создавали очень хорошую базу с точки зрения практического использования в работе. Думаю, что тема, заявленная на этой конференции, актуальна». И добавил: «В то же время провести реформы без принятия достаточно болезненных решений невозможно. Невозможно постепенно вырастить реформы, особенно реформы институтов». И «вообще люди устали от реформ… Поэтому, может быть, и не нужно использовать слово «реформы», а использовать какие-то другие выражения – постепенные изменения к лучшему» [13].
При всей неожиданности, ценность этого предложения состоит в том, что оно ориентирует на определенную цель реформ – изменения к лучшему, понятные и поддерживаемые населением. Но самое главное – какие при этом происходят реальные изменения. О них можно судить по тем диагнозам, которые были сделаны российскими учеными в последние годы и подытожены в 2017 г., преимущественно в контексте 100-летия Великой русско-российской революции.
Оценки-диагнозы российских ученых на основе результатов массовых и экспертных опросов
-
• Прежде всего, обратимся к самому масштабному в истории российской социологии, поддержанному РНФ и продолжающемуся с 2014 г. мегапроекту Института социологии РАН «Динамика социальной трансформации современной России в социально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах» (руководитель – академик М.К. Горшков). Результаты пяти его волн опубликованы в пяти книгах [14]. Используя широкий контекстный подход, социологи пришли к взвешенным выводам и оценкам-диагнозам эволюции российского общества в условиях новых больших вызовов – внутренних и особенно обострившихся внешних. Подводя итоги пяти волн мегапроекта, его руководитель заключил: «В целом анализ результатов проекта дает основания утверждать, что в условиях кризиса в России доминирует и сохраняет свою устойчивость ценностно-нормативная система, характерная для обществ „неоэтакратического” типа . Стержнем подобной системы является особая роль государства. Однако это отнюдь не выражает массовую потребность в авторитарном режиме и уж тем более в тоталитарном строе. Напротив, речь идет о характерном для России восприятии общества как ипостаси „Державы”. При таком массовом восприятии государство от общества неотделимо, а само общество выдает власти мандат на осуществление функций заботы о народе» [15].
-
• Не могу не отметить результаты инициированных Центром изучения социокультурных изменений Института РАН и осуществляемых под моим руководством: Всероссийского мониторинга «Ценности и интересы населения России» (с 1990 г. по настоящее время) и исследований по межрегиональной программе
«Проблемы социокультурной эволюции и модернизации регионов», проводимых с 2006 г. в трети субъектов Российской Федерации. Они обобщены в ряде коллективных монографий и подытожены в «Атласе модернизации России и ее регионов: социоэкономические и социокультурные тенденции и проблемы». В контексте задач данной статьи отмечу два вывода диагностического характера. Первый вывод: «10 лет не меняется перечень и порядок приоритетных мер, предлагаемых населением для улучшения условий его жизнедеятельности. Среди них на первом месте постоянно находится необходимость создавать новые рабочие места. Следовательно, актуальные проблемы не решаются, а воспроизводятся » [16]. И второй вывод: России необходима стратегия модернизации, интегрирующая две ее стадии (индустриальную и информационную) и осуществляемая «сверху и снизу», координируя федеральные и региональные потребности и инициативы, а в долгосрочной перспективе ориентирующаяся на идеал реального гуманизма.
-
• Продолжающийся более 20 лет социологический мониторинг общественного мнения о состоянии российского общества и эффективности государственного управления, который осуществляется Институтом социально-экономического развития регионов РАН (ныне в составе ФГБУ науки «Вологодский научный центр РАН»), а его результаты подытоживаются в регулярных статьях главного редактора журнала «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз» члена-корреспондента РАН В.А. Ильина. Обобщенная характеристика этих результатов представлена в его статье (в соавторстве), открывающей первый номер журнала в 2018 г. В ней подчеркнут вывод, сделанный в конце 2017 г.: « Таким образом, в самых главных проблемах, волнующих людей, позитивных изменений за последние 17 лет не произошло: вопросы социальной справедливости, имущественного и социального расслоения, бедности стали еще острее » [17].
-
• Другим методом изучения состояния и перспектив российского общества служат экспертные опросы специалистов. Одним из значимых стал опрос, который в 2017 г. был проведен редакцией международного научно-общественного журнала «Мир перемен» (главный редактор – член-корреспондент РАН
Р.С. Гринберг). Редакция обратилась к экспертам с просьбой «ответить на три вопроса, связанных с Великой русской революцией:
-
1. С каким знаком Вы оцениваете Октябрь 1917 г. и весь советский период в истории России и почему? Великая революция или преступный переворот?
-
2. Какие уроки из Октября и опыта советской власти должен извлечь наш современник, независимо мыслящий российский интеллигент, чтобы не повторить прошлых ошибок?
-
3. Видите ли Вы какое-либо сходство российской ситуации сегодня, в 2017 г., с Россией 1917 г.?»
Редакция журнала получила ответы на эти вопросы от более чем 60 авторитетных ученых, политиков, общественных деятелей, политиков и журналистов. Их ответы составили содержание всего заключительного номера журнала за 2017 г. и получили на его обложке название «Страсти вокруг Октября». Это независимые и разные оценки и прогнозы. «Урок, который следует из всего этого, – по мнению главного редактора, – очевиден: следует избегать крайностей либерализма, национализма и административного регулирования. При этом самое главное – решить вновь возникшую проблему расширяющейся пропасти между кучкой богатых и массой бедных, что, конечно же, создает пугающую параллель с 1917 г. Как бы то ни было, мы точно знаем, что может произойти, если игнорировать общественно неприемлемое неравенство» [18].
Новым стимулом для уяснения способов снижения остроты жизненно значимых и несправедливо сохраняющихся проблем стали майские указы (2018 г.) В.В. Путина, начинавшего новый срок выполнения обязанностей Президента России. Одним из свидетельств этого стало обсуждение доклада академика А.Г. Аганбегяна «О целях и задачах развития России до 2024 г.» на заседании Секции экономики Отделения общественных наук РАН в июне 2018 г.
Большинство специалистов, изучая интересующие их реалии, предлагают свои способы их изменений к лучшему – от частных до комплексных, включая преодоление «капитализма для своих» и утверждение социального государства, закрепленного в Конституции России и ориентированного на формирование общества реального гуманизма. Впрочем, это дела- ют не все; имеются специалисты, убежденные в невозможности изменений в России к лучшему. Пока их позиция подтверждается тем, что российское общество продолжает «гибридный транзит в социокультурное никуда» – по колее «капитализма для своих». Транзит, корректируемый указами Президента о необходимости постепенного решения очередных жизненно важных для населения задач. Указы частично осуществляются, но многие задачи остаются нерешенными. Позитивные изменения приветствует большинство россиян, которые, вместе с тем, постепенно утрачивают традиционную терпеливость в отношении застарелых проблем и формируют желание сделать жизнь более справедливой и существенно лучше здесь и теперь. При этом остаются мало известными предпочтения различных слоев населения о векторах и способах необходимых изменений.
Конечно, далеко не все рядовые граждане («простые люди») имеют ясные предпочтения по столь сложным темам. Все же, на мой взгляд, можно сконструировать алгоритм изучения предпочтений значительной части рядовых, но достаточно образованных респондентов, а также экспертов. Требуется выделить небольшую совокупность тем и сформулировать их в виде понятных респондентам вопросов, которые позволят в процессе интервью получить надежные ответы.
Предстоящая Седьмая волна Российского социального исследования (РСИ) по Программе международного сравнительного исследования European Social Servey (ESS) предоставляет такую возможность, поскольку предусматривает, наряду со стандартными блоками вопросов по актуальным проблемам экономической и социальной политики, разработку вопросов по двум специализированным темам: (1) изучение представлений населения европейских стран о справедливости; (2) изучение вопросов жизненного цикла современного человека и ценностно-нормативных регуляторов, определяющих характер изменений в календаре событий в жизни человека.
Ниже я предлагаю вариант алгоритма эмпирического изучения Способов перемен жизни к лучшему (алгоритм СПЖЛ), точнее – алгоритма операционализации задач изучения предпочтений населения о способах справедливых и существенных перемен жизни к лучшему.
Алгоритм изучения способов перемен жизни к лучшему, предпочитаемых населением
О смыслах и терминологии алгоритма
Уточню смыслы и используемые термины предлагаемой методологии. Ее содержание соответствует принятому в научных исследованиях вниманию к состоянию жизненно значимых для населения социальных проблем . Особенность предлагаемой методологии заключается в том, что основное внимание сосредоточивается на тех социальных проблемах, состояние которых оценивается населением как несправедливое и которые длительное время воспроизводятся, становятся застарелыми, даже обостряются, несмотря на повторяющиеся заявления представителей власти о намерениях их решить. Обычно при опросах населения по таким проблемам социологов интересует только реагирующее поведение респондентов – их адаптация, готовность к протестам и т.д., а выявление конкретных способов преодоления/снижения остроты проблем как таковых исследователь считает лишь «своим делом», выполняемым при анализе полученных данных. Я предлагаю получать данные и о самих способах решения проблем, предпочитаемых населением, т.е. выбираемых респондентами из гипотетического набора проблем, предлагаемых исследователем и, возможно, самими респондентами (в открытых наборах вариантов ответов).
Термин « социальная проблема » или, для краткости, просто «проблема» я использую не в гносеологическом, а в предметном его значении, основном для населения – это, по определению В.А. Ядова, социальное противоречие, затрагивающее интересы больших социальных общностей и требующее организации целенаправленных действий для его устранения [19].
Справедливость как нравственная оценка социальных отношений в данном случае применяется не к самой жизненно значимой проблеме как таковой, а к ее состоянию, воспринимаемому многими или большинством граждан или как приемлемое, терпимое, или же, напротив – как неприемлемое, несправедливое, по житейскому счету – как личная беда, исходящая от общества и зависящая от его органов власти. Если, например, рассматривается проблема неравенства доходов, то справедливым или несправедливым будет не само по себе нера- венство, как считали ранние утопические коммунисты, а диапазон неравенства, измеряемый отношением доходов верхних децильных групп населения к доходам нижних, величиной коэффициента фондов и другими соотношениями. Величина диапазона неравенства, оцениваемого как несправедливое, меняется в зависимости от традиций, ценностей населения данной страны (общества), других культурно-исторических факторов и может измеряться путем репрезентативных опросов. Опросы в рамках алгоритма СПЖЛ позволят выявить круг социальных проблем, состояние которых население считает несправедливым. Это относится и к таким проблемам, которые могут быть оценены как несправедливые сами по себе, – например, неравенство перед законом: формула закона требует абсолютного равенства, но правоприменительная, в том числе судебная, практика не в состоянии выполнить это требование на 100%; следовательно, практически опять-таки важен диапазон разрыва между требованием закона и мерой его осуществления. Поэтому целесообразно использовать термин «несправедливое состояние социальной проблемы», определять состав таких проблем на каждом этапе развития общества и анализировать эволюцию их состава как значимую характеристику справедливости-несправедливости всего общества.
При этом будет выявлен круг таких проблем, состояние которых несправедливо, но которые, тем не менее, устойчиво сохраняются на протяжении длительного времени, становятся застарелыми, пожизненными личными бедами (как была в советское время очередь на улучшение жилищных условий). Они приносят людям усталость, постепенно замещают терпение озлобленностью и превращаются в источник «внезапных» взрывоопасных протестов широких слоев населения, «русского бунта». Соответственно, термин « застарело несправедливое состояние социальной проблемы » заслуживает особого внимания исследователей и политиков.
Все это позволяет выявить новый смысл термина «существенная перемена жизни к лучшему» – увидеть суть этой перемены в заметном сокращении круга социальных проблем, состояние которых значительная часть населения считает застарело несправедливым, а их преодоление будет воспринимать как избавление от личных бед, повышающее удовлетворенность жизнью в целом, особенно на данном ее этапе, как позитивное событие, влияющее на экзистенциальный опыт человека. Это определенно повысит идентификацию людей с обществом, государством, их гражданскую и деловую активность. Будет означать перемену жизни к лучшему всего общества.
Наконец, о термине « способ существенной перемены жизни к лучшему ». Трудно ожидать от рядовых респондентов предложений-оценок способов перемен в виде вариантов конкретных управленческих решений; впрочем, такие предложения не исключены, их следует предусмотреть в виде возможных открытых ответов. Более ожидаемы предложения-оценки относительно обобщенных способов перемен стратегического характера. Варианты таких предложений в виде ответов, предлагаемых респондентам для выбора, предстоит подготовить самому исследователю – как гипотетические. Поскольку речь идет об уменьшении несправедливости, то способы достижения такой цели не могут быть несправедливыми ни для кого в данном обществе. Это самое трудное в содержании предлагаемой методологии – не рассматривать упрощенные способы действий ни «сверху», ни «снизу», ни от страдающей стороны, ни от приносящей страдание. Поэтому и необходимо знать предпочтения страдающих «простых людей». А олигархическим «верхам» придется, учитывая эти предпочтения, пойти на компромисс с «простыми людьми» и согласиться на преодоление застарело несправедливых состояний социальных проблем, чтобы избежать возможных «бунтов». Их уже не хочет никто или почти никто, но это не значит, что они невозможны. Сохранение исходящих от общества (и его органов власти) личных бед для многих членов этого общества равнозначно нарастанию и обострению этих бед как коллективного бессознательного, которое находит выход в антисоциальных действиях толпы. Поэтому лучший способ существенных перемен жизни к лучшему – не превентивная блокада любых перемен, а компромиссное преодоление несправедливых состояний социальных проблем, особенно – застарелых. И чем раньше, тем вернее.
Пять шагов алгоритма СПЖЛ
В качестве исследовательской стратегии методологию алгоритма СПЖЛ можно охарактеризовать как сочетание разведывательной и описательной стратегий (подробнее об этих стратегиях см. подраздел в книге В.А. Ядова «Социологическое исследование» [20]). Разведывательный характер предлагаемой методологии определяется отсутствием информации о возможных позициях респондентов. Вместе с тем, исследователь должен иметь достаточную информацию о реальном состоянии изучаемых проблем; в этом отношении методология алгоритма приобретает частично описательный характер. Сочетание двух стратегий требует высокой квалификации тех, кто готовит опросные листы. Также очевидно, что опрос необходимо проводить в форме интервью на дому у респондентов, что предполагает высокую квалификацию интервьюеров. Все это делает необходимыми следующие шаги по реализации предлагаемого алгоритма.
Шаг № 1.
Прежде всего, требуется определить перечень жизненно значимых проблем, состояние которых население считает несправедливым, включая вопросы, которые позволят выяснить степень остроты восприятия респондентами несправедливости состояний каждой проблемы и длительность, застарелость их существования. Это должен быть ограниченный перечень, научно отрефлексированный по критерию гипотетической справедливости их устранения/ смягчения. Сознавая неизбежную дискуссион-ность перечня, назову около 10 таких проблем.
Жизненно важные проблемы, состояние которых несправедливо, а остроту несправедливости следует преодолеть или снизить:
-
1. Низкая защищенность от преступности.
-
2. Незащищенность от бедности и нищеты.
-
3. Неразвитость конкуренции, клановость и коррумпированность в бизнесе и управлении.
-
4. Равенство налогов на чрезмерно неравные доходы.
-
5. Нестабильность правил пенсионной системы.
-
6. Неравенство рядовых граждан перед законом в судах.
-
7. Попустительство обмана дольщиков строителями жилья.
-
8. Бесконтрольность действий органов ЖКХ.
-
9. Неинформированность населения о ходе выполнения целевых программ (федеральных и региональных) и других значимых решений органов управления.
-
10. Неинформированность избирателей о деятельности депутатов.
-
11. Незащищенность рядовых граждан от произвола чиновников.
Шаг № 2.
Требуется сформулировать вопросы о том, удается ли респондентам удовлетворительно преодолевать несправедливые состояния каждой проблемы своими силами, или от них мало что зависит и требуются изменения, осуществляемые органами власти на региональном или на федеральном уровнях. А также уточнить запас терпения в отношении состояния этих проблем и т.п.
Шаг № 3.
На основе предварительного концептуального анализа выделенного перечня проблем включить в опросный лист гипотетический перечень комплексных способов (стратегий) пре-одоления/смягчения тех проблем, сохранение несправедливых состояний которых не зависит от действий респондентов. В опросном листе это будут варианты ответов, предлагаемых респондентам в качестве исследовательских гипотез, но перечень ответов должен быть открытым для дополнительных вариантов, предлагаемых самими респондентами. Подготовка связанной совокупности комплексных способов (стратегий) преодоления/смягчения несправедливости существующих состояний проблем – пожалуй, наиболее конструктивный и ответственный шаг реализации алгоритма СПЖЛ. Его содержание – результат творчества самого исследователя. Ниже в свободной форме я предлагаю свое видение состояния совокупности проблем и способов (стратегий), отношение к которым желательно получить от респондентов.
-
• Большинство россиян устали от сохранения и обострения вновь возникшего, после ликвидации Советской власти, социально несправедливого, чрезмерного, во многих отношениях неэффективного материального неравенства, прежде всего неравенства доходов. Они не первый год ожидают от органов власти
не мелких улучшений, а существенных изменений российского общества, государства, бизнеса, позволяющих устранить/смягчить проблемы, состояния которых значимы для качества жизни населения и воспринимаются как несправедливые.
-
• Многие россияне считают, что для России пришла пора взять новый исторический рубеж – строить Россию, отличающуюся от советской и досоветской, способную дать достойные ответы на новые вызовы – внешние (цивилизационные, глобальные) и внутренние (региональные и общероссийские). Ответы, обеспечивающие национальную безопасность России и высокое качество жизни всего ее населения, при справедливой дифференциации, соответствующей разноконфессиональной культуре ее многоэтничного населения.
-
• Для этого нужны не революционные изменения (стала очевидной их разрушительность в наше время), а устойчивая и целеустремленная эволюция в направлении государства благосостояния, общества (цивилизации) реального гуманизма [21]. Исторически апробированный способ успешной эволюции – «модернизация сверху и снизу» на основе координации действий федерального уровня и инициативы региональных и муниципальных уровней.
-
• Устойчивая эволюция предполагает разумный компромисс между элитами, находящимися у власти, и различными группами населения, структурами гражданского общества, представляющими его средний класс и более низкие социокультурные слои, страты. Стратегическим компромиссом может стать гарантированное Конституцией Российской Федерации правовое социальное государство, опирающееся на принципы социального рыночного хозяйства, апробированные в послевоенной Германии, других европейских странах, и соответствующее базовым ценностям, всей культуре русского, в целом российского населения.
-
• Компромиссные решения более обоснованы и полезны, если они подготовлены с учетом независимой научной экспертизы и свободного обсуждения их проектов в научном сообществе, СМИ, парламенте или более широко – путем электронно-цифровых рейтингов среди населения.
-
• Принятые решения будут успешнее осуществляться, если они сопровождаются независимыми мониторингами об их эффективности среди групп населения, заинтересованных в осуществлении решений.
Возможно, потребуется конкретизировать совокупность названных тем на взаимодопол-нительные варианты, выражающие специфику федерального и регионального уровней. Тематика регионального уровня, более близкая респондентам массового опроса, в опросном листе может предшествовать федеральной тематике, подготавливая к ее восприятию. Впрочем, можно аргументировать и обратный порядок этих вариантов.
Шаг № 4.
Важно также использовать распространенный вопрос: «Насколько Вы удовлетворены жизнью в целом?» А затем конкретизировать его по датам событий в жизни человека: когда и в связи с какими событиями Вы испытали наибольшее (и, альтернативно – наименьшее) удовлетворение жизнью в целом? И дополнить блоком вопросов о ценностно-нормативных регуляторах изменений в календаре событий индивида. Затем измерить корреляции ответов на эти вопросы с позициями по вопросам предыдущих шагов алгоритма.
Конечно, подготовка опросов по такой тематике требует высокой квалификации разработчиков программы и опросного листа, а также интервьюеров. Предстоит разработать и специализированную выборку, которая будет учитывать необходимый образовательный уровень респондентов.
Шаг № 5.
Наконец, не без душевного трепета, исследователь приступает к контролю качества бланков интервью, содержащих ответы респондентов. При удовлетворительном их качестве он погружается в результаты статистического анализа трех кругов данных: 1) ответов на вопросы алгоритма СПЖЛ; 2) их соотношений с ответами, полученными в стандартных блоках опроса; 3) этих соотношений двух кругов данных – с сопоставимыми данными по другим странам, участвовавшим в данной волне European Social Survey (в той мере, в какой они будут сопоставимы).
Уверен, что изложенный подход повысит качество социологических исследований и позволит сделать их выводы более обоснованными и востребованными как населением, так и органами управления. Буду рад, если возникнут лучшие предложения по тематике опросов населения о способах существенных перемен к лучшему. Пусть будет их открытый конкурс !
Список литературы О поиске способов существенных перемен жизни к лучшему: дискурсы профессионалов и алгоритм изучения способов, предпочитаемых населением
- Заславская Т.И. К десятилетию международного симпозиума «Куда идет Россия?.»//Куда пришла Россия?. Итоги социетальной трансформации/под общ. ред. Т.И. Заславской. М.: МВШСЭН, 2003. С. 400-401.
- Заславская Т.И. О смысле и предварительных итогах российской трансформации//Там же. С. 395, 396.
- Стратегия для России: гуманистический выбор//Гуманистические ориентиры России/редк.: Л.И. Абалкин и др. М.: Институт экономики РАН, 2002. Глава 6. С. 172.
- Ясин Е.Г. Перспективы российской экономики: проблемы и факторы роста//Модернизация экономики России: итоги и перспективы. В 2-х кн. Отв. ред. Е.Г.Ясин. М., ГУ ВШЭ, 2003. Кн. 1. С. 189.
- Заславская Т.И. О социальных факторах расхождения формально-правовых норм и реальных практик//Куда идет Россия?. Формальные институты и реальные практики/под общ. ред. Т.И. Заславской. М., МВШСЭН, 2002. С. 20, 21.
- Институты: от заимствования к выращиванию. Опыт российских реформ и возможности культивирования институциональных изменений/Я.И. Кузьминов, В.В. Радаев, А.А. Яковлев, Е.Г. Ясин//Модернизация экономики и выращивание институтов. В 2 кн./отв. ред. В.Г. Ясин. М.: ГУ ВШЭ, 2005. Кн. 1. С. 11.
- Полтерович В.М. Трансплантация экономических институтов//Экономическая наука современной России. М., 2001. № 3.
- Полтерович В.М., Попов В.В. Стимулирование роста и стадии развития//Модернизация экономики и выращивание институтов. В 2 кн./отв. ред. В.Г. Ясин. М.: ВШЭ, 2005. Кн. 1. С. 138.
- Полтерович В.М., Попов В.В. Стимулирование роста и стадии развития//Модернизация экономики и выращивание институтов. В 2 кн./отв. ред. В.Г. Ясин. М.: ВШЭ, 2005. Кн. 1. С. 147-148.
- Гайдар Е.Т. Переход от заимствования институтов к их выращиванию//Модернизация экономики и выращивание институтов. В 2 кн./отв. ред. В.Г. Ясин. М.: ГУ ВШЭ, 2005. Кн. 1. С. 91.
- Жуков А.Д. Реформы -это постепенные изменения к лучшему//Модернизация экономки и выращивание институтов. В 2 кн./отв. ред. В.Г. Ясин. М.: ГУ ВШЭ, 2005. Кн. 1. С. 67.
- Российское общество и вызовы времени. Книги 1-5/под ред. М.К. Горшкова и др. М.: Весь мир. 2015, 2016, 2017.
- Российское общество и вызовы времени. Книга пятая/под ред. М.К. Горшкова и В.В. Петухова. М.: Весь мир. 2017. С. 386-387.
- Атлас модернизации России и ее регионов: социоэкономические и социокультурные тенденции и проблемы/отв. ред. Н.И. Лапин. М.: Весь мир, 2016. С. 306.
- Ильин В.А., Морев М.В. Что оставит В. Путин своему преемнику в 2024 году?//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018. № 1. С. 13.
- Гринберг Р. Что дал Октябрь «городу и миру» и каковы его уроки?//Мир перемен. М., 2017. № 4. С. 11-12.
- Ядов В.А. Проблема, объект и предмет исследования//Он же. Социологическое исследование (Методология, программа, методы). М., Наука, 1972. С. 46-50; см. также: Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М.: Добросвет, 1998. С. 71-76.
- Ядов В.А. Принципиальный (стратегический) план исследования//Он же. Социологическое исследование (Методология, программа, методы). М.: Наука, 1972. С. 69-74; см. также: Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М.: Добросвет,1998. С. 104-111.
- О концепте реального гуманизма см.: Н.И. Лапин. Аксиологические предпосылки цивилизационного выбора России//Вопросы философии. М., 2015. С. 3-17