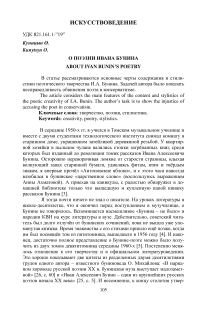О поэзии Ивана Бунина
Автор: Куницын Олег Иосифович
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры @vestnikvsgik
Рубрика: Искусствоведение
Статья в выпуске: 4 (4), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные черты содержания и стилистики поэтического творчества И.А. Бунина. Задачей автора было показать несправедливость обвинения поэта в консерватизме.
Творчество, поэзия, стилистика
Короткий адрес: https://sciup.org/170189441
IDR: 170189441 | УДК: 821.161.1-”19”
Текст научной статьи О поэзии Ивана Бунина
В середине 1950-х гг. я учился в Томском музыкальном училище и вместе с двумя студентами технологического института снимал комнату в старинном доме, украшенном затейливой деревянной резьбой. У квартирной хозяйки в пыльном чулане валялись стопки затрёпанных книг, среди которых был изданный до революции томик рассказов Ивана Алексеевича Бунина. Осторожно переворачивая ломкие от старости страницы, вдыхая волнующий запах старинной бумаги, удивляясь фитам, ятям и твёрдым знакам, я впервые прочёл «Антоновские яблоки», и с этого часа навсегда влюбился в бунинское «царственное слово» (воспользуюсь выражением Анны Ахматовой). А приехав на каникулы, с радостью обнаружил в домашней библиотеке только что вышедшую и купленную папой книжку рассказов Бунина [3].
Я тогда почти ничего не знал о писателе. На уроках литературы в школе-десятилетке, что я окончил перед поступлением в музучилище, о Бунине не говорилось. Вспоминается насмешливое «Бунина – не было» в пародии КВН на курс литературы в вузе. Действительно, советский читатель был долго отлучён от бунинских сочинений, пока не вышла уже упомянутая книжка. Время знакомства с его стихами пришло ещё позже, когда им был посвящён том из пятитомника, вышедшего в 1956 году [4]. И наконец, достаточно полное представление о Бунине-поэте можно было получить из двух томов девятитомника середины 1960-х [5]. Постепенно менялось отношение к его творчеству и в официальном литературоведении. Это хорошо показывают две цитаты из разделенных двумя десятилетиями трудов одного автора – известного буниноведа О. Михайлова: «В нарядном хороводе русской поэзии XX в. бунинская муза выступает малозаметной» [26, с. 60] и «Иван Алексеевич Бунин – один из крупнейших русских поэтов начала XX века» [25, с. 5]. И несомненно, к концу столетия утвер- ждение о непреходящей ценности Бунинского поэтического наследия «звучит как аксиома» [25, с. 5], чем лишний раз подтверждается мысль, что истинно прекрасное в искусстве – бессмертно.
х х х
Прослеживая эволюцию поэтического творчества Бунина, легко отметить, что в ранний период (примерно 1885-1902 гг.) он в той или иной степени испытывал влияния ряда русских поэтов – и первых трёх четвертей XIX в., и современников. Можно говорить и о некрасовском воздействии (стихотворение 1886 г. «Деревенский нищий» [1, с. 20], кстати, первые опубликованные стихи Бунина – вспомним «Жизнь Арсеньева»1 [5, т. 6, с. 116], «кучер, приостановившись, подал мне номер петербургского журнала, в который я, с месяц тому назад, впервые подал стихи. Я на ходу развернул его и точно молнии ударили мне в глаза волшебные буквы моего имени…» [5, т. 6, с. 110], кольцовском («Ты раскрой мне, природа, объятия, чтоб я слился с красой твоей», 1886) [1, с. 118], никитинском («Серп луны за тучкой тает, проплывая гаснет он. С колокольни долетает, замирая сонный звон», 1887) [1, с. 118]. И даже при резко отрицательном отношении к стихам С. Надсона, которые «казались мне только дурным пустословием» [5, т. 6, с. 122] можно найти в ранних стихах Бунина нечто родственное музе Надсона – таково, например, стихотворение «Поэт» (1886) [1, с. 19]. Но ещё более очевидно влияние на раннего Бунина поэзии А. Фета. Вспомним хотя бы стихотворение, датированное 1902 г.: «Перед закатом набежало над лесом облако…» [5, т. 1, с. 167]. Недаром ведь Арсеньев – «двойник» Бунина – с таким восторгом цитирует свои любимые строки Фета: «Опять серебряные змеи через сугробы поползли…» или «…в дыму облаков светит пасмурный призрак луны» [5, т. 6, с. 214]. Бунин пишет «читал, бледнея» [там же] – очевидно, от понятного волнения перед предельно прекрасной русской поэтической речью. О. Михайлов, например, убеждён, что «Поэтическая система Фета как бы включает в себя характерные приметы бунинского стиля» [26, с. 61].
Однако, чем дальше мы движемся глазами по томику бунинских стихов, тем очевиднее становится, что все это влияние скорее внешнее, а глубинные корни поэтического творчества Бунина уходят в «золотой» век русской поэзии – к В. Жуковскому, А. Пушкину, Ф. Тютчеву. Известно, что Бунин «был человеком крайне недоверчивым к современной поэзии <…> последними по времени поэтами, заслужившими от него безоговорочную похвалу были Майков и Полонский…» [23, с. 244].
Даже о таком кумире тех лет, как великий русский поэт А. Блок, Бунин отзывался вполне неодобрительно2.
И уж, конечно, декадентско-модернистские тенденции, столь расцветшие в русской поэзии на рубеже XIX-XX вв., вызывали резко отрицательное отношение Бунина. Так, в речи на юбилее газеты «Русские ведомости» в октябре 1913 г. он вполне определенно выразил своё отношение к творческим поискам русских декадентов: «Чего только не проделывали мы в последние годы с нашей литературой, чему только не подражали мы, чего только не имитировали, каких только стилей и эпох не брали, каким богам не поклонялись? Буквально каждая зима приносила нам нового кумира. Мы пережили и декаданс, и символизм, и натурализм и порнографию [- называвшуюся разрешением «проблемы пола»], и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Апполо-на, и «пролеты в вечность», и садизм, и снобизм, и приятие мира, и неприятие мира, [и лубочные подделки под русский стиль], и адамизм, и акмеизм [- и дошли до самого плоского хулиганства, называемого нелепым словом футуризм]. Это ли не Вальпургиева ночь!» [5, т. 9, с. 529]1.
Примерно в это же время Бунин писал М. Горькому: «В Москве был огорчен футуристами. Не страшно всё это, но, боже, до чего плоско, вульгарно – какой гнусный показатель нравов, пошлости и пустоты новой «литературной армии»!» [17, с. 187].
По воспоминаниям В. Катаева, в разговорах с ним Бунин неоднократно высказывал «замечания относительно современной литературы <…> полные яда и сарказма» [7, с. 30]. «… настоящая поэзия выродилась – говорил он. Бальмонт, Брюсов, Белый – не более чем московская доморощенная декаденщина, помесь французского с нижегородским, <…> а футуристы – просто уголовные типы, беглые каторжники …» [7, с. 30].
Как думается, эти и подобные филиппики Бунина были вызваны отнюдь не политическими мотивами. Бунина – хранителя чистоты русского языка, отвращало от декадентства прежде всего неуёмное «словотворчество» подчас самоцельное, превращавшееся в словесное трюкачество, нарушавшее естественные законы развития языка. Действительно, как он мог воспринимать хлебниковское «о, смейся, рассмеяльно, смех надсмей-ных смеячей»? [10, с. 294]. Или «Бобэобэ пелись губы» [10, с. 295] того же автора? Естественно, лишь как издевательство над языком Пушкина и Тютчева. И понятно, что для сочинителей стихов, подобных опусу «рече-творца» А. Крученых «дыр бул щил убещур» [11, с. 452], Бунин-пурист не находил более подходящей характеристики, чем «беглый каторжник».
Несомненно, что именно поэтому же «повсеградно обэкранен-ный» И. Северянин, изобретший множество вполне нелепых слов, вызывал у Бунина чувство, близкое к ненависти: «о лакейских» поэзах Игоря
Северянина – придумали же такое омерзительное слово! - И говорить нечего». В другой раз он сказал: «Читал стихи лакей, притворившись поэтом» [15, с. 30]. Как думается, эпитет «лакейский» Бунин употребил вовсе не из желания унизить «эгофутуриста», а только указывая на истоки худшего в стихах И. Северянина – на так называемый, «галантерейный стиль», то есть, манеру разговора приказчиков, стремившихся поразить «необразованный люд» витееватостью и множеством «красивых» слов, в том числе, и иностранных (подчас безжалостно искажаемых и понимаемых превратно)1.
Очевидно, что в период сложных поворотов социальной жизни России, что закономерно отразилось в сложности и противоречивости «стихотворной карты» страны, Бунин был одним из самых строгих хранителей и приумножателей высших традиций русской поэтической классики. Неслучайно при жизни Бунина его стихи имели ограниченный успех. По воспоминаниям современников, когда Бунин «читал свои стихи, <…> они были встречены холодно – в стиле Бунина не было пустозвона, шаблонных рифм, и особенно потому, что в них не было гражданской скорби…» [17, с. 69].
х х х
Вопрос о содержании творчества Бунина сложен. Если в наше время уже никто не сомневается в высочайшем мастерстве писателя, то за содержание, выбор тем и сюжетов он постоянно подвергался упрекам в консерватизме. Подобная точка зрения была распространена ещё и в конце XX века. Вот, например, очерк Л. Долгополова «Судьба Бунина» (имеется в виду зарубежный период творчества писателя). Автор тщательно цитирует резкие отзывы о Бунине А. Толстого, А. Цветаевой и ещё многих, а с другой стороны приводит резкие (может быть случайные) отзывы Бунина о поэтах-современниках. Говоря далее о «поэтической плеяде» нового времени – В. Маяковском, А. Ахматовой, С. Есенине – Л. Долгополов заключает, что «ничего этого Бунин не хотел видеть, ему была чужда, неприемлема сама мысль о значительности того обновления и поворота, который свершался в поэзии» [22, с. 267]. И дальше – больше: «Для Бунина не существовало понятий «вперед» или «назад», не существовало понятий «прогресса» или «регресса»» [22, с. 275]. Во всем этом явно звучит укор Бунину и сравнение не в его пользу с упомянутыми поэтами – его современниками. Как думается, в позиции Л. Долгополова есть ещё «отсветы» тех времен, когда творчество Бунина (зачислявшегося в белоэмигранты) определялось как безусловно упадочное, есть ещё тенденции той эпохи, когда всех писателей и поэтов хотели выстроить в одну шеренгу и подстричь под одну гребенку. Если к суждению Л. Долгополова о бунинском отношении к прогрессу и регрессу добавить слова «в искусстве», то всё стало бы на свои места. Действительно, бессмысленно спорить о том, что лучше - стихотворения Бунина или Маяковского, они не сопоставимы, каждое прекрасно в своём роде и ни одно не заменит другого. И, как говорится, слава Богу, что в русской поэзии есть и Бунин, и Маяковский, а не два Маяковских или два Бунина. И, может быть, величие Бунина и состоит именно в том, что в период бурных переломов и поворотов он не соблазнился «злободневностью», а остался самим собой - хранителем сокровищ чистого русского языка, хранителем традиций русской «кастальской» поэзии.
Наиболее проницательные из современников Бунина уже тогда понимали его особую роль «хранителя» на фоне «вальпургиевой ночи» модернизма, декаденства, псевдоноваторских поисков. Так, А. М. Горький писал Е. Чирикову: «У меня странное впечатление вызывает современная литература, - т о л ь к о Б у н и н в е р е н с е б е (разрядка наша - О.К.), всё же остальные пришли в какой-то дикий раж и, видимо не отдают себе отчёта в делах своих» [21, с. 17]. К этому справедливому замечанию следовало бы добавить: «верен себе» - значит, верен лучшим традициям русской классики.
Несомненно, что Бунин поступил мудро, не обратившись к темам, которые были бы чужды его музе, не писал стихов, подобных псевдорево-люционным «Матросам» В. Кириллова, которые, по словам В. Маяковского, «шествуют в раздирающемся по швам 4-хстопном поношенном амфибрахии» [24, с. 99]. Вспомним, как, например, надуманны и трескучи стихотворения К. Бальмонта, посвященные революции 1905-го года [6, с. 334337].
Но отказ Бунина от определённых тем, даже очень важных, вовсе не означает узости кругозора, ограниченности его творчества. Безусловно, справедливо мнение О. Михайлова, что если Бунин и «не обладал передовым мировоззрением, способностью глубоко отзываться на жгучие, животрепещущие запросы эпохи.» [26, с. 70], то «и было бы ошибкой рассматривать его поэзию как нечто раз и навсегда сложившееся, не изменяющееся, пассивно-самоценное и созерцательное. Связь между его творчеством и общественной жизнью существовала, только она была не прямой и не непосредственной™» [26, с.70-71]. И мы никак не можем согласиться с мнением А. Горелова о том, что, якобы, «...Бунин представлял собой пример феноменально заострённой субъективности, породившей то «постоянство», которое замораживало его способность к более свободному творческому перевоплощению, к расширению диапазона его художнических наблюдений и пристрастий™» [20, с. 496]. Ведь нет ни одного по-настоящему большого художника без «заострённой субъективности» (иначе бы он не был самим собой), а каждое индивидуально окрашенное творчество при неизбежной внутренней эволюции, отражающей эволюцию действительности вокруг, неизбежно сохраняет главные свои отличительные черты. «Я изнемогаю, - жаловался Бунин, - от того, что на мир я смотрю только своими глазами и никак не могу взглянуть на него как-нибудь иначе™» [17, с. 171]. Но разве кому-либо это удавалось? «Хорошо можно знать только собственное сердце.», - говорил Г. Флобер. А. Блок, например, остался Блоком, хотя и эволюционировал от «вешних сумерек» к «революць-ённый держите шаг!». Приведём пример из искусства музыки: одного из крупнейших музыкантов XX века И. Стравинского называли «композитором с тысячью лиц» - он отдал дань и «кучкизму», и импрессионизму, и неоклассицизму, и джазу, и стилизации «под Чайковского», и додекафонии, но сейчас, по прошествии времени, очевидно, что за каждым из «тысячи лиц» ясно проступает индивидуальное творческое лицо Стравинского и ныне, совершенно очевидно, что при всей способности Стравинского к, говоря словами А. Горелого, «свободному творческому перевоплощению», в его самых различных внешне произведениях больше общего, чем различного. А. Горелов видит у Бунина общее, но недостаточно внимательно вглядывается в различное.
Очевидно, что в творчестве Бунина, к которому официальное литературоведение вернулось через три десятилетия («Бунина не было»), вначале больше виделось общее, к тому же многое воспринималось как «чуждое», не укладывающееся в рамки социалистического реализма, понимавшегося узко и догматически.
Истинную необъятность бунинского творчества с афористической точностью определил К. Паустовский «в прозе и поэзии Бунина явственно присутствует ощущение жизни, как длительного и в основе своей прекрасного пути от рождения человека до смерти..» [31, с. 81].
Чёткость этого определения, при всей его внешней простоте, удивительна - здесь и указание на широкоохватность - «путь от рождения человека до смерти», и ответ на упрёк в «пессимизме» - «в основе своей прекрасного пути».
И если в творчестве Бунина немало трагического, безысходного, скорбного, печального, то это отражение жизни во всем её многообразии, во всей её противоречивой сложности.
Судьба Бунина была трагичной. И не только потому, что он, не приняв происходивших в России революционных перемен, был подхвачен волной эмиграции и провёл вторую половину своей жизни «на чужом берегу». Правда, Бунин никогда не был врагом России-родины, он оставался русским во всех смыслах этого понятия до конца дней, а его отказ от коллаборационизма в тяжёлые годы немецкой оккупации Франции стал последним чётким штрихом в облике Бунина-человека. В послевоенные годы Бунин, как и ещё многие русские художники-эмигранты, намеревался вернуться на родину и не его вина, что пресловутое постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», бывшее сигналом к безответственному шельмованию художественной интеллигенции, заставило Бунина в испуге отказаться от своего намерения.
Но трагизм судьбы Бунина был заложен и в его собственном характере - в трагическом противоречии между тяготением и любви к людям, с одной стороны, и в необходимости в одиночестве, чтобы полноценно погрузиться в творчество. И этот мотив о д и н о ч е с т в а (по собственной вине) постоянен в поэзии Бунина (особенно, конечно, в зарубеж- ный период, когда писатель был вырван из привычной социальной и природной среды). Из многих стихов Бунина, посвящённых теме одиночества, приведём завершающее эту линию одно из последних стихотворений Бунина - «Ночь» (1952), в котором с подлинным трагизмом и лаконичной афористичностью трактуется тема завершения жизни на чужбине: «Ледяная ночь, мистраль <…> Никого в подлунной нет только я да Бог. Знает только он мою мёртвую печаль... » [1, с. 488].
Мотив одиночества окрашивает и бунинскую т е м у л ю б в и. «Личная неудача, вырождение дворянства, пошлость и подлость устройства буржуазного общества - вот источники, щедро питавшие бунинскую тему любви» [19, с. 227]. Это сказано о прозе Бунина, но, очевидно, что нет принципиальных различий между содержанием его прозы и поэзии, Бунин-прозаик и Бунин-поэт - неразрывны. Но если в прозе Бунин чаще выступает как рассказчик, следуя за сложной фабулой, то стихи его (в подавляющем большинстве жанр баллады Бунину не был свойственен) - это исповедь души, к какой бы теме Бунин-поэт не обращался.
По верному замечанию А. Волкова у Бунина «психологический анализ наиболее близок форме внутреннего монолога…» [19, с. 243], то есть, писатель-поэт всегда словно бы становится своим героем, смотрит на мир «изнутри» его душевного мира.
И Бунин умеет передать все сложности любовного чувства, связывающего людей и вскрывающего глубинную суть человеческой души. Любовь его героев непрочна, поскольку писатель исходит из мысли о невозможности полного совпадения человеческих устремлений - это причина крушения любви, хотя непосредственным поводом может служить и случайность в развитии жизненных коллизий. Поэтому тема любви у Бунина почти всегда трагична, в его стихах любовь - это, чаще всего, любовь прошлых дней, воспоминание о давно ушедшем: «…первая любовь пришла ко мне с могилой и весною..» [1, с. 460]; «...нет уже в мире нас, когда-то юных и блаженных! <…> Зачем же ты воскресаешь во сне…» [1, с. 455]; «.. .познал надежду и радостей обман, тщету любви и терпкую разлуку...» [1, с. 452]; «Но для женщины прошлого нет: разлюбила - и стал ей чужой^» [2, с. 194].
В своё время было традиционным обвинять Бунина в эротизме, даже в склонности к фрейдистским концепциям. Так, эмигрантский литературовед Ф. Степун видел в его творчестве «неизбывную тяжесть безликого пола, тяготеющего над лицом человеческой любви» [32, с. 336]. Конечно, это - неумеренная крайность.
Эротическое начало в стихах Бунина присутствует, но не как самоцель, а как отражение одной из существенных сторон реальной человеческой жизни. И совершенно закономерно, что «Герои Бунина, - пишет А. Волков, - как бы нежно и лирически они не любили, всегда терзаемы призывами плоти. Нужно ли говорить, что Бунин, как и всякий крупный художник, безупречно верен законам природы, определяющим чувства и поведение человека» [19, с. 351].
Но если Бунин-писатель, особенно в поздний период, рассказал об этой стороне жизни с подчас беспощадной откровенностью (книга «Тёмные аллеи»), то в стихах, как уже говорилось, эротическое начало лишь в отдельных штрихах, проведённых с удивительной тонкостью и, как выразились бы раньше, целомудренностью (ныне это слово воспринимается как несколько архаическое): «...идёт она - и стройное бедро под красной плахтой так упруго…» [1, с. 181]; «…красавице не спится <…> а что порою на уме - и молвить непристойно...» [1, с. 331]; «...мала твоя тугая грудь, и кожа смуглая гладка...» [1, с. 333]; «...скучна, беспола и распутна…» [1, с. 402]. Но вот, наконец, поразительное по образности, искусной простоте и смелости, и по возведению бытовой эротики в ранг высокой поэзии: «Я к ней вошёл в полночный час. Она спала, - луна сияла в её окно.. .Она лежала на спине, нагие раздвоивши груди, - и тихо, как вода в сосуде, стояла жизнь её во сне...» [2, с. 110]. Естественно, что такие бунинские стихи стали известны российскому читателю лишь когда миновали времена ханжеской морали.
И напрасно Л. Никулин считал, что в позднем периоде бунинской жизни и творчества «есть произведения, написанные с излишними эротическими подробностями чуть ли не с утратой ч у в с т в а м е р ы» (разрядка наша - О.К.) [28, с. 158]. Именно чувство меры, подчас, может быть, даже излишне строгое, свойственно Бунину, тем более, в поздний его период. Думается, впрочем, что эти слова Л. Никулина - просто дань време- 1 ни.
Рядом с темами одиночества и любви равное место в стихах Бунина занимает т е м а п р и р о д ы. Бунин, как сказал К. Паустовский, «так удивительно ясно, одновременно строго и нежно говорит о природе, неотделимой от течения человеческих дней…» [31, с. 81]. По замечанию А. Нинова, «В девяностые годы (XIX столетия - О.К.) Бунин редко выходил за рамки созерцательной поэзии. Он оставался в своём уединённо-прекрасном и уравновешенном мире родной природы, которую чувствовал во всём разнообразии её оттенков и состояний, в закономерной смене жизненных форм» [29, с. 247]. В дальнейшем же чистое живописание сменяется психологическим раскрытием темы «человек в мире природы».
Пейзаж, образы природы выступают у Бунина не самоцельно, это не «натюрморт» импрессионизма, эстетика которого Бунину не была близка. Поэт с удивительной точностью сам выразил это обстоятельство в одном из своих стихотворений раннего периода (1901) - «Нет, не пейзаж влечёт меня, не краски жадный взор подметит, а то, что в этих красках светит: л ю б о в ь и р а д о с т ь б ы т и я» [1, с. 120]. (Здесь и далее разрядка в цитатах из сочинений Бунина наша. - О.К.). Конечно, и пейзаж влечёт Бунина, и взгляд его жаден до красок и их бесчисленных оттенков, но, в отличие от виртуозной, но холодной звукописи и живописи импрессиони-
-
1 Как самый поздний по времени рецедив этой «кочки зрения» приведём мнение А. Горелова, трактующего, например, содержание «Тёмных аллей», как «откровенный разлив сексуальности...» [20, с. 561].
стов, пейзаж Бунина всегда согрет внутренним чувством, это не пейзаж сам по себе, а человек, находящий в красках природы одну из главнейших радостей человеческого бытия: «… эту лиловую синеву <….> я и умирая вспомню…» [5, т. 6, с. 32]. Пейзаж у Бунина – это не просто аналогия или контраст к душевному состоянию героев, входящие в драматургию повести, рассказа или стихотворения. Функция пейзажа гораздо значительнее и глубже, поскольку образ природы в сознании поэта несёт надежду на то счастье и духовное удовлетворение, которое не может дать ему общение с людьми. И можно считать своего рода программным для Бунина его известное стихотворение (1918): «И цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь и полуденный зной…Срок настанет – Господь сына блудного спросит: «Был ли счастлив ты в жизни земной?» И забуду я всё – вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав…» [3, с. 80].
Любопытно, что для юного Бунина наиболее привлекательным был ночной пейзаж. Через три десятилетия он с мягкой усмешкой вспомнил в своей «Автобиографической заметке», что «с целью «наблюдения таинственной ночной жизни» месяца на два прекратил ночной сон, спал только днём» [26, с. 66]. Вот строки из ранних стихотворений (вторая половина 80-х годов XIX века): «Месяц задумчивый, полночь глубокая...» [2, с. 1]; «…смущён ночи июльской тревожною ласкою…» [1, с. 311]; «Далеко по широкой равнине сумрак ночи осенней разлит…» [1, с. 22]; «…таинст-венных вечных созвездий узор золотой..» [1, с. 23]; «…мягко мрак ночной плывёт в ночном просторе..» [1, с. 25]; «Ночь тиха и бледна, высоко полный месяц стоит»; «Ночь северная медленно и грузно возносит ночное величие своё» [1, с. 28].
И в дальнейшем, когда, по словам О. Михайлова, «в бунинские стихи проникает дневной свет, солнце» [26, с. 66], поэт не оставляет «ночной темы». Конечно, изображение ночного неба, звёзд, ночного пейзажа, «звуков ночи» становится всё более тонким, по-бунински индивидуальным: «Как, Господи, благодарить тебя за всё, что в мире этом ты дал мне видеть и любить в морскую ночь под звёздным светом…» [1, с. 482].
Вот ещё цитаты из бунинских стихов, раскрывших тему единства человека и природы, тему человека как частицы нашего прекрасного и необъятного мироздания: «В дачном кресле, ночью на балконе Океана к о л ы б е л ь н ы й шум..» [1, с. 431]; «Вот опять я молод, волен…В мире радость, свет и зной…» [1, с. 401]; «А для нас, для нас в темноте аллей цветы з а п е л и в этот сладкий час…» [1, с. 389]; «В лилово-синем море чернозёма затерян я…» [1, с. 209]. Завершим цитирование ещё одним своего рода программным стихотворением-завещанием: «Этой краткой жизни вечным измененьем буду неустанно утешаться я – этим ранним солнцем, дымом над селеньем, в этом парке листьев медленным паденьем…» [1, с. 428]1 .
Любовь Бунина к миру окружающей природы сказывается в том, что поэт «знает в лицо» каждую частицу этого мира – у него почти нет «просто деревьев», растений вообще – каждое названо по имени. Вот, например, названия цветов, упоминающихся в стихах Бунина: ландыш, астра, хризантема, жасмин, роза, миндаль, ромашка, мимоза, тюльпан, табак, герань, болотная мята, мак, лилия, кувшинка, клевер – «их хватит на целый академический гербарий!» [26, с. 69] – восклицает О. Михайлов. И все они входят в поэтику Бунина именно как образы природы, а не повод для сравнения. Так, уже до невозможности затасканная поэтами всех рангов роза в стихах Бунина «пахнет» вполне свежо: «…где на куртинах диких роз в блаженстве ослепительного блеска впивают пчелы тёплый мёд…» [1, с. 377]. А вот и целый «лес» деревьев: береза, клен, осина, ель, ёлка, яблоня, сосна, тополь, ольха, явор, кипарис и даже экзотические кокос, пальма; вот «заросли» трав и кустарников: бурьян, крапива, акация, кактус, лиана. И все это не просто частицы лесного или степного пейзажа, это повод для «движения души», для лирического переживания: «…тепло земли, и горький мёд сухой полыни…» [1, с. 376].
Столь же дороги душе поэта и «братья наши меньшие». В книге воспоминаний В. Катаева приводится эпизод, когда Бунин, рекомендуя молодому поэту вглядываться в окружающую жизнь, среди предметов, достойных внимания, одним из первых называет собаку: «Бежит собака с высунутым языком <…> опишите собаку. Одно, два четверостишия. Но точно, достоверно, лишь бы собака была именно эта, а ни какая-нибудь другая…» [7, с. 15], (отметим здесь характерное бунинское – «точно, достоверно»). И в стихах самого Бунина постоянны образы мира животных – звери (собака, ёж, змея, сурок, верблюд, конь, баран, коза, вол, лось, тур, медведь, жаба, дикобраз, даже «южные гости» - хамелеон, крокодил, слон, леопард), птицы (иволга, грач, ворон, соловей, дрозд, гусь, петух, сорока, сокол, бекас, павлин, утка, даже известный у нас, наверно, только орнитологам, пчелоед), насекомые (муравьи, сверчки, светляки, цикады, бабочки, пчёлы, мухи – лесные, а не навязчивые домашние, хотя, может быть, и есть такие).
И для каждого из «меньших братьев» Бунин находит единственные неповторимые слова: «Кошка в крапиве за домом жила <…> Кошка приходит и светит глазами…» [1, с. 242]; «Там иволга, как флейта, распевала…» [1, с. 244]; «Шипит и не встаёт верблюд, ревут, урчат бока скотины…» [1, с. 291]; «…соловьи всю ночь поют из тёплых гнезд…» [1, с. 298]; «…комар тоскует в полутьме…» [1, с. 331]; «В холоде голых, прозрачных аллей, пробует цокать, трещит соловей» [1, с. 397]; «Петухи поют по деревне, - то ли спросонья, с испугу, то ли к весёлой ночи…» [1, с. 495].
Животные в бунинских стихах – это отнюдь не басенные «герои», условные носители каких-то человеческих свойств, это именно живые час- присоединяемся к В. Катаеву, сказавшему в аналогичной ситуации: «Даже повторить эти бунинские слова, переписав их своею рукой, и то громадное наслаждение» [7, с. 42]. (Разрядка в стихах Бунина всюду наша. – О.К.).
тицы природы, частью которой поэт осознает и себя: «Чёрный бархатный шмель, золотое оплечье, заунывно гудящий певучей струной, ты зачем залетаешь в жильё человечье и как будто тоскуешь со мной?» [1, с. 383]. Свою веру в единство всего живого на земле Бунин афористически выразил и в известном стихотворении «Кобылица»: «Едины божие созданья, благословен создавший их, и совместивший все желанья и все томления – в моих» [1, с. 406]. Вспомним и трогательную мечту страдающего от одиночества поэта: «…хорошо бы собаку купить…» [1, с. 168]. Вспомним и программное: «И цветы, и шмели…» [1, с. 432] – образ шмеля среди тех реалий жизни, которые поэт собирается сохранить в памяти, уходя навсегда за край земного круга.
х х х
Каковы же основные стилистические черты художественной речи Бунина? В чем секрет необычной красоты, пластичности и неповторимой индивидуальности драгоценного бунинского слова? А. Твардовский писал: «Рассказывают, что слыша похвалы своему языку, Бунин обычно отшучивался: «Какой такой особый язык у меня: пишу русским языком, язык, конечно, замечательный, но я-то тут причём?» [34, с. 46]. Твардовский считает это высказывание шуткой, за которой стоит «горечь художника, которому всегда обидно, так сказать, выборочное признание его достоинств» [34, с. 46]. Как думается, дело вовсе не в обиде писателя. В этих словах Иван Алексеевич Бунин выразил глубинную суть своего творчества, свою индивидуальность, свою роль в русской литературе рубежа XIX-XX века – он был хранителем всего того лучшего, что накопила русская классика. В годы разгула модернизма, а затем и соцреализма, эта охранительная традиция делала Бунина новатором, поскольку сокровища русской поэзии Бунин перенёс на новый виток диалектической спирали развития великой русской литературы. И в наши дни пророческим остается афористическое стихотворение Бунина «Слово»: «…нет у нас иного достоянья! Умейте же беречь, хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, наш дар бессмертный -речь» [1, с. 313].
Владея, как никто из его современников, сокровищами чистого русского языка, не опускаясь до сомнительного «словотворчества», не пользуясь «брединой чалой»1 диалектизмов, Бунин умел увидеть мир по-своему, и по-своему рассказать об этом. В. Катаеву принадлежит чеканное по своей точности определение такой способности Бунина: «Сила Бунина – изобразителя, - пишет он, - заключалась в поразительно быстрой, почти мгновенной реакции на все внешние раздражители и в способности тут же найти для них совершенно точное словесное выражение» [7, с. 41]. Он же назвал бунинские глаза «беспощадно зоркими» [7, с. 35]. Аналогичны мнения практически всех современников Бунина. Вот что, например, пишет в своих воспоминаниях о встречах с Буниным И. Одоевцева: «Он всё видел как-то по-своему и находил для всего новые, неожиданные сравнения и определения» [30, с. 103]. Об этом даре Бунина находить адекватный словесный эквивалент увиденному, говорит и мастер русской прозы К. Паустовский: «Из необъятного числа слов он безошибочно выбирал <...> слова наиболее живописные, наиболее сильные, связанные какой-то незримой и почти таинственной связью и единственно для этого повествования необходимые <…> Каждый рассказ и каждое стихотворение Бунина подобно сильному магниту, который притягивает из самых разных мест все частицы, нужные для этого рассказа» [31, с. 85].
Безупречный вкус, точность в выборе слова были природным даром Бунина - он пришёл к ним после долгих и трудных поисков в юности, когда нередко отдавал дань «альбомной безвкусице, дешёвой красивости (вроде: «Замок, дремлющий при шёпоте фонтанов, где красавица, склонившись на балкон» [27, с. 41], когда «молодой писатель зачастую уходил от живой действительности в мир условных картонно-поэтических декораций...» [27, с. 41].
Зато в пору зрелости Бунин достиг столь высокого уровня мастерства, подлинной виртуозности, что многие его шедевры были созданы сразу «набело», без вариантов и поправок. Характерно мнение, сложившееся у жены писателя В. Н. Муромцевой-Буниной (с которой он сблизился уже в зрелом возрасте - 36-летним): «Иван Алексеевич никогда «кропотливо и упорно» над своими фразами не работал. У него был от природы «поставлен язык», как, например, у Неждановой был поставлен от природы голос...» [16, с. 117].
С годами отношение Бунина к выбору слова становится всё более строгим. Исчезают прежде иногда мелькавшие архаизмы, как, например, слова из церковно-славянской культовой терминологии (в поздних стихах лишь однажды встречается «потир» - чаша из церковного обихода). Всё более строгой и логичной становится конструкция его фраз, не теряя при этом инверсионной гибкости, ощущения свободы и естественности.
Словесный «пуризм» Бунина подчёркивают многие его современники. Так, В. Катаев приводит высказывания Бунина о Толстом, поразившие Катаева своей «необщепринятостью»: «…при всей его гениальности, Лев Толстой не всегда безупречен как художник. Есть у него много сырого, лишнего. Мне хочется <_> взять, например, его «Анну Каренину» и заново её переписать <...> сделав фразы более точными, изящными, но, разумеется, нигде не прибавляя от себя ни одной буквы, оставив всё толстовское в полной неприкосновенности. <...> глубоко убеждён, что отредактированный таким образом Толстой <^> будет читаться ещё с большим удовольствием и приобретёт дополнительно тех читателей, которые не всегда могут осилить его романы именно в силу их недостаточной стилистической обработки» [7, с. 55].
Конечно, подобный проект «редактирования» сочинений великого писателя не был и не мог быть осуществлён, но он показателен для болезненно чувствительного отношения Бунина к нарушениям стилистики. Что именно он имел ввиду, можно понять, если вспомнить, например, такой эпизод в «Анне Карениной»: «ясная серебрянная Венера низко на западе уже сияла из-за берёзок своим нежным блеском, и высоко на востоке у ж е переливался своими красными огнями мрачный Арктурус. Над головой у себя Лёвин ловил и терял звёзды Медведицы. Вальдшнепы у ж е перестали летать <…> Венера перешла у ж е выше <…> колесница Медведицы с своим дышлом была уже вся видна на тёмном синем небе… В лесу уже было тихо…» [13, с. 183]. Здесь, как можно себе представить, Бунин-пурист нашёл бы «погрешности» - с его пристрастием к точности каждой детали наверняка показалось бы «небезупречным» отсутствие указания на то, о какой Медведице идет речь – Большой или Малой? Или почему Арк-турус (Арктур) переливается «красными огнями» (во множественном числе) – Бунин обязательно бы привел оттенки этих «огней».
Но вряд ли бы Бунин в действительности взялся за «переписывание» Толстого. Наверняка он понимал то обстоятельство, которое хорошо выразил Н. Римский-Корсаков, вынужденный редактировать сочинения М. Мусоргского: «…это всё очень легко исправить, но притом теряется нечто весьма важное» [36, с. 240].
Но, повторяем, само высказывание Бунина, сохранённое его учеником, показательно для отношения поэта к проблеме стилистики: «Умейте же беречь <…> наш дар бессмертный – речь…» [1, с. 313].
В. Амлинский в статье о В. Катаеве назвал последнего «гением метафор», пояснив: «Он словно обладал особым зрением, позволяющем видеть людей и предметы в невидимых обычному глазу подробностях» [14, с. 79]. Как думается, эти слова в не меньшей, если не в большей, мере можно отнести к Бунину, тем более что Катаев считал себя учеником великого мастера и очень этим гордился. Недаром первая публикация отрывка из книги «Трава забвения» называлась «Учитель и ученик» [8]. Действительно, Бунина привлекала возможность своеобразного удвоения номинативной функции слова в речи. При этом бесчисленные бунинские метафоры, если так можно выразиться, первичны – в них нет самоцельности, нет нарочитой сложности, излишней изысканности. Чувствуется, что отнюдь не «изобретательство» в этой сфере двигало Буниным – метафора была одним из наиболее естественных для него приёмов художественной речи.1
Формы метафор в стихах Бунина бесконечно разнообразны. В этой роли выступают существительные: «…низко кренит Фемона серое к р ы л о» [1, с. 193]; «на тусклом блеске волн, облитых с е р е б р о м…» [1, с. 351]; «Морской простор – в д о с п е х е золотом…» [1, с. 372]; «прилагательные: «Всё п р о щ а ю щ а я даль» [1, с. 195]; «…о б м а н у в ш и й год…» [1, с. 195]; «…сорока <…> качает длинным т р а у р н ы м хво- стом.» [1, с. 372]; «.мерцает д е в с т в е н н а я Вега над дальним станом крымских гор.» [2, с. 197]; «.и сад о б н а ж ё н н ы й гудел и стонал…» [1, с. 60]; «…блестят огни по ж и р н ы м эполетам…» [1, с. 378]; «…свежие струи волны, в з д ы х а ю щ е й в дремоте..» [1, с. 434]; «Глаза княжны не сходят с б у р н ы х нот» [1, с. 439]; «…я привык смотреть в о б м а н ч и в ы е дали ...» [1, с. 440]; «В нежарких солнечных лучах краснеют б р о н з о в ы е дыни.» [1, с. 159]; «.с м у г л ы м золотом Иса-кий смотрит дивно и темно…[1, с. 314]; «С болотной мятой округ в о с к о в о й головы…» [1, с. 304]; «Золотыми цветут остриями у кровати п о л н о ч н ы е свечи…» [1, с. 419]. Глагол, причастие и деепричастие: «Гром, п р о в о р ч а в в саду, с к а т и л с я за гумно» [1, с. 192]; «Запад темнеет и с в и щ е т сосна» [1, с. 322]; «с о ж ж ё н цветник морозом» [2, с. 195]; «.лес з а м и р а е т , млеет в зное.» [2, с. 198]; «.б е г у т, б е г у т листы раскрытой книги…» [2, с. 242]; «Могильная плита, железная доска, в густой траве в р а с т а ю щ а я в землю…» [1, с. 311]; «…в степи роса д ы м и т с я…» [1, с. 319]; «…лес щ е т и н и т новую вершину…» [1, с. 396]; «…ш е п ч е т сад беспокойные речи…» [1, с. 419]; «…звёздное сияние б е л е е т меж ветвей.» [1, с. 84]; «Поджал губу, с и н е в ш у ю щетиной…» [1, с. 388]; «…смело зрит простёртое пред ним нагое з е л е н е ю щ е е тело.» [1, с. 408]. Особенно часты генитивные конструкции (метафорическое существительное, соединённое с другим в родительном падеже): «. глубоко в з о л о т е песка, под х р у с т а л ё м воды, сияет белоснежный недвижный отблеск маяка…» [2, с. 205]; «…чуть розовеет п е п е л небосклона.» [2, с. 262]; «Как нежны на алеющем закате, к р е м л и далёких синих облаков» [2, с. 266]; «…звенящей люстры серый к о к о н…» [1, с. 223]; «…в ш а т р а х узорчатых мимоз, на их ресницах серебрятся а л м а з ы томных, крупных слёз.» [1, с. 258]; «.в серебряной п ы л и туманно-ярких звёзд.» [1, с. 298]; «.мех ковра, уют алькова и сырой м о р о з газет…» [1, с. 314]; «… стройна, нарядна и скромна, с о г н ё м полуденного взгляда…» [1, с. 377]; «И так же будет неба д н о смотреть в открытое окно…» [1, с. 386]; «В пустом, сквозном ч е р т о г е сада иду…» [1, с. 430]; «П е ч а л ь ресниц, сияющих и чёрных…» [1, с. 455]; «В о л н ы Альп, мерцающих над синью п л а т и н о й горбов своих ледяных…» [1, с. 307]; «… тёплых сумерек краснеющий ш а ф р а н…» [1, с. 373]; «Море плавится в заливе драгоценной с и н е в о й» [1, с. 401]; « Б и р ю з о й сияет небо.» [1, с. 161]; «А под стенами - красные обрывы и волн густой а к в а м а р и н.» [1, с. 173]; «.блещут стекла алым г л я н ц е м…» [1, с. 323]; «Бараны сбились в кучу, сверкая я н т а р я м и спящих глаз.» [1, с. 319];
Наконец, всевозможные сочетания вышеперечисленных приёмов: «В ж а р к о м з о л о т е закат.» [1, с. 323]; «И вновь к р е с т и т ь н а г у ю душу в к у п е л и неба и морей…» [1, с. 341]; «… блещет а л м а з н о й п о д к о в о й полярный венец» [1, с. 343]; «… любовь, что душу п о с е щ а л а, о с т а в и л а в душе печальный с л е д» [2, с. 137]: «. нашей жизни б л е д н ы й с о н…» [2, с. 205]; «… а ночь с о з в е з д ь я м и ц в е л а.» [1, с. 318]; «Д и к и г р у б, океан гремит о р г а н а м и.» [1,
-
с. 393]; «Колоколов с р е д н е в е к о в ы й, п е в у ч и й з о в, п е ч а л ь времён…» [1, с. 456]; «На столах а л е е т пыль. Вечерним н и з к и м светом из окон солнце блещет в зеркалах…» [1, с. 249]; «И будет сонно, сонно. Черепицы с т е к л о м с в е т и т ь с я будут…» [1, с. 259].
И вот ещё пример, особенно ярко показывающий, как глубоко метафорично поэтическое мышление Бунина – характеризуя собственный дар выбора слова, свой «поэтический такт», он пишет: «Некий Nord моей душою правит, он меня в скитаньях не оставит, он мне скажет, если что: не то!» [1, с. 392] – здесь за словом «Nord» очевидно стоит понятие «магнитная стрелка», безошибочно указывающая на Север, но это «верхний слой», так как магнитная стрелка тоже есть метафорическая замена понятия «художественное чутьё».
Завершая разговор о метафорах у Бунина, заметим, что свойственное поэту тонкое чувство меры полностью сказалось и здесь. У Бунина нет перенасыщения метафорами – для сравнения вспомним, что, например, у В. Маяковского на десяти страницах трагедии «Владимир Маяковский» исследователи насчитали более 350 метафор. Но дело, конечно, не только в количественных показателях» - метафоры Бунина мягче, естественнее, «скромнее», они не «эпатируют» подобно метафорам раннего Маяковского: «Лягу, светлый, в одеждах из лени на мягкое ложе из настоящего навоза и тихим, целующим шпал колени, обнимет мне шею колесо паровоза» [9, с. 154]. Безусловно, что Бунин умел меньшими средствами достичь не меньшего образно-эмоционального эффекта.
Другая важнейшая сторона стилистики бунинской поэзии – её звуковая красота, «музыка» слова. «Я, вероятно, все-таки рожден стихотворцем, - говорил Бунин, - <…> для меня главное н а й т и з в у к …» [17, с. 170-172] (разрядка наша. – О.К.). Очевидно, что в такой форме он выразил суть различия между прозой и поэзией – в последней чисто звуковое и семантическое значение, в известной степени, равноправны. Поэтому «музыкальная проза» Бунина может считаться одновременно и поэзией 1.
«Инструментовка» бунинского стиха отличается тонким чувством меры. В отличие от его современников-символистов, культивировавших аллитерацию подчас как самоцель и нередко добивавшихся ощущения вычурности, чрезмерности и даже назойливости (вспомним например, бальмонтовское: «… Ластятся воЛны к весЛу, Ластится к вЛаге ЛиЛея. СЛухом невоЛьно Ловлю Лепет зеркаЛьного Лона…» [6, с. 216]), (выделение букв здесь и далее наше – О.К.), Бунин, казалось, исповедовал тезис Маяковского «Дозировать аллитерацию надо до чрезвычайности осторожно и по возможности не выпирающими наружу повторами…» [24, с. 112]. Действительно, бунинские аллитерации могут не сразу осознаваться, но они оказывают громадное влияние на общую «тональность» стиха: «И так же будет залетать Цветная бабоЧка в Шелку – порХать, ШурШать и трепетать по голубому потолку…» [1, с. 316] – здесь мы словно бы слышим беззвучный шелест крыльев бабочки. «Ветер приХодяЩий, уХодяЩий, веюЩий беЗбреЖностью морской …» [1, с. 431] – нельзя не ощутить в этих стихах мерное дыхание ночного морского ветра. А здесь слышен шорох осенней листвы: «В пуСтом СквоЗном Чертоге Сада иду, Шумя Сухой лиСтвой: какая Странная отрада…» [1, с. 430]. А вот пример из поэмы «Листопад» своего рода синестезии, когда повторение «звенящих» звуков вызывает словно бы ощущение блеска звёздного неба: «… меж белых их раЗводов, вЗойдут огни небеСных Сводов, Заблещет Звёздный Щит СтоЖар – в тот чаС, когда Среди молЧанья мороЗный Светится поЖар…» [1, с. 96].
И понятно восхищение К. Паустовского: «Язык Бунина …, - говорил он, - необыкновенно богат в образном и з в у к о в о м (разрядка наша. – О.К) отношениях – от кимвального пения до звона родниковой воды…» [31, с. 86].
Вспоминается восторг В. Катаева по поводу аллитерации в бунинском стихотворении «С обезьяной» [1, с. 259]: «… всё это чистейшая поэзия, но, конечно, лишь в том случае, если удается открыть самую душу вещи и явления: например, душу велосипеда, который «промелькнёт бесШумным маХом птицы» (выделение букв наше. - О.К). Этот бесшумный мах, в котором всё же присутствовал шорох шин, буквально, сводил меня с ума своей дьявольской точностью …» [7, с. 18].
Вот ещё примеры бунинских аллитераций, «открывающих самую душу вещей и явлений»: «Звезда дрожит Среди вСеленной <…> Звездой пылающей, потиром Земных Страстей, небеСных СлёЗ. Зачем, о ГоСподи, над миром ты бытие моё воЗнёС?» [1, с. 429]; «Щеглы, их звоН, стекляННый, Неживой и клеН Над облетевшею листвой…» [1, с. 427]; «О радоСть краСок! Снова, Снова, лаЗурь СквоЗь яркий жёлтый Сад…» [1, с. 421].
И эти примеры, как и примеры других «рукотворных чудес» в стихах Бунина, можно продолжать бесконечно.
В сложной и разветвленной системе определений, используемой Буниным (метафорическое определение, эпитет), особенно выделяется умение поэта видеть окружающее «в цвете». Это качество Бунина-художника очень ценил К. Паустовский, сам замечательный мастер «литературного пейзажа»: « … у Бунина было редкое безошибочное ощущение красок и освещения…» [31, с. 82].
Мир поэзии Бунина – это мир необычайно многоцветный. Поэт, словно живописец, тонко и точно чувствует и передаёт всё цветовое разнообразие окружающего. «Цветное зрение» Бунина-поэта поражает своей тонкостью. В привычных явлениях-пейзажах, облике людей и вещей он видит множество цветовых оттенков, находя для каждого из них по-бунински точное словесное выражение. Заметим также, что цвет для Бунина – это не просто одно из отличий данного явления, но часто и определённый символ, поначалу кажущийся чисто субъективным, но по мере вникания в него, обнаруживающий общечеловеческие черты. Вот, например, харак- терное высказывание, вложенное поэтом в уста пустынника: «Какая тишина и радость в белом цвете!» [2, с. 320] - в этих словах словно скрыты и тишина бескрайних снежных полей, и безмолвие вечности (ведь на Востоке белый цвет - цвет траура), и белизна чистого листа бумаги, на который сейчас лягут строки нового стихотворения поэта...
Есть у Бунина и свой излюбленный цвет. Герой «Жизни Арсеньева» говорит, что ещё в ранней молодости «навсегда проникся глубочайшим чувством истинно-божественного смысла и значения земных и небесных красок» [5, т. 6, с. 32]. Характерно, что здесь как равные поставлены рядом всё бесчисленное многообразие з е м н ы х красок и одна н е б е с н а я -синева, голубизна неба. Очевидно, именно она, как для многих людей, для Бунина имела особенное, необъяснимо притягательное значение: «^часами простаивал, - пишет он, - глядя в ту дневную, переходящее в лиловое, синеву неба, которая сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве <…> Подводя итог того, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню…» [5, т. 6, с. 32]. «О радость красок! - восторгался поэт. - Снова, снова лазурь сквозь яркий жёлтый сад горит так дивно и лилово...» [1, с. 421].
И удивительно ли, что «тема синевы» (оттенков синего, голубого и лилового) проходит через всю поэзию Бунина, становясь своего рода «лейтмотивом». Вот некоторые из многих примеров: «Мрамор неба, с и н и й с белыми разводами» [1, с. 433]; «.. .где в небе г о л у б о м встают сиреневым горбом обрывы каменных громад …» [1, с. 375]; «… на водной с и н е в ш е й пустыне, в золотой пустоте г о л у б о й высоты…» [1, с. 395]; «... облаков с и р е н е в ы е клочья в жидком, влажно-б и р ю з о в о м небе...» [1, с. 306]; «В л а з у р и неба, ясной и пустой, та грань чернеет с и н ь ю воронёной из-за косы песчанно-золотой...» [1, с. 348]; «... л а з у р ь сквозит и на шиферные крыши г о л у б о й водой скользит...» [1, с. 422].
Восхищение небесной синевой делает для Бунина синий цвет и его бесчисленные оттенки особенно желанными и поэт отмечает это всюду: «Свет серебристо-г о л у б о й, свет от созвездий... » [1, с. 153]; «Океан туманно-г о л у б о й...» [1, с. 177]; «... самоцветы небес: янтарно-зелёный Юпитер, Сириус, дерзкий с а п ф и р, с и н и м горящий огнём…» [1, с. 186]; «Я помню купол грубо-г о л у б о й: там Саваоф с простёртыми руками^» [1, с. 260]; « Осенний день в л и л о в о й крупной зыби блистал, как медь...» [1, с. 261]; «... всё песок да кусты, сосенник с и н е-зелёный...» [1, с. 322]; «Солнце полночное, тени л и л о в ы е в жёлтых ухабах тяжёлых зыбей…» [1, с. 357]; «На л и л о в о м небе жёлтая луна…» [1, с. 369]; «Вдали полдневных гор хребет л а з у р н о-мглистый...» [1, с. 391]; «Зыбь облаков и мелка, и нежна. Возле луны г о л у б а я она... » [1, с. 397].
Подчас при первом чтении своеобразие бунинской цвето-световой гаммы может даже озадачить, но тут же приходит понимание, а за ним и восхищение еще одной художественной находкой поэта, безусловно обогатившей русскую литературу.
Обратимся к примерам: «… залив меж кипарисов, точно с и н и м пламенем налит…» [1, с. 110]; «… серебрится сад с в е т о м и т а и н с т в е н н ы м и к р о т к и м… » [1, с. 102]; «… мирно р о з о в ы й мерцает Антарес…» [1, с. 90]; «… голубей пугливых стаи сверкают с н е ж н о й белизной…» [1, с. 55]; «… вдоль просеки лесной, ч е р н е е т грязь в листве л и м о н н о й…» [1, с. 40]; «Б а г р я н а я печальная луна…» [1, с. 144]; «А солнце, р о з о в е я, в степную пыль садилось…» [1, с. 158]; «Б и р ю з о й сияет небо…» [1, с. 161]; «А под стенами – к р а с н ы е обрывы и волн густой а к в а м а р и н…» [1, с. 173]; «… океан т у м а н н о-г о л у б о й…» [1, с. 177]; «По стеклам р а д у ж н ы м … тревожно бабочка л и л о в а я снует…» [1, с. 180]; «Всё море – как ж е м ч у ж н о е зерцало, с и р е н ь с отливом м л е ч н о - з о л о т ы м…» [1, с. 184]; «В лилово-синем море чернозёма затерян я…» [1, с. 209]; «… сонно светится сквозь ельник с е р п а з е л е н о в а т о е пятно…» [1, с. 211]; «… глыбы ж ё л т о-п е п е л ь н ы х камней, забытые могилы в океане нагих песков…» [1, с. 237]; «В столетнем мраке ч ё р н о й ели к р а с н е л а т ё м н а я заря, и светляки в кустах горели з е л ё н ы м дымом янтаря…» [1, с. 248]; «… моря пышноцветное индиго…» [1, с. 256]; «Горит хрусталь, горит р у б и н в вине…» [1, с. 291]; «Стамбул ж е м ч у ж н о - с е р вдали…» [1, с. 291]; «… среди ветвей корявых ползёт м о л о ч н ы й дым: окуривают сад…» [1, с. 298]; «Море заштилело, з е л е н е е т, на востоке, светлом, а п е л ь с и н о в о м, розовеют снеговые горы…» [1, с. 293]; «… облаков сиреневых клочья в жидком, в л а ж н о - б и р ю з о в о м небе…» [1, с. 306]; «Солнце, улыбаясь в светлой дымке, перламутром р о з о в ы м слепило…» [1, с. 307]; «Роса, при б л е д н о - р о з о в о м огне далёкого востока, золотится…» [1, с. 319]; «Заиграет вьюгою и листву м у р у г у ю понёсет смелей…» [1, с. 329]; «… за ч ё р н ы м деревом луна, склоняясь, з о л о т и т с я…» [1, с. 331]; «В л а з у р и неба, ясной и пустой, та грань ч е р н е е т с и н ь ю в о р о н е н о й из-за косы п е с ч а н н о - з о л о т о й…» [1, с. 348]; «На ледяном Казбеке блещет Востока р о з о в ы й огонь…» [1, с. 356]; «… тёплых сумерек к р а с н е ю щ и й ш а ф р а н…» [1, с. 373]; «Вечерних туч над морем шла гряда, и з о л о т и с т о - с е р ы м и столпами стояла безграничная вода…» [1, с. 387]; «Вдали полдневных гор хребет л а з у р н о - м г л и с т ы й…» [1, с. 391]; «Море плавится в заливе драгоценной с и н е в о й. Вниз бегу. Обрыв за мною против солнца ж ё л т ы й…» [1, с. 401]; «… р о з о в а я облачность небес…» [1, с. 414]; «В г е л и о т р о п о в о м свете молний летучих…» [1, с. 458]; «… сады в долинах р о з о в е л и, в них г о л у б о й стоял туман, селенья ч ё р н ы е молчали…» [1, с. 475]; «… цветы, з о л о т я с ь, вырастая, на л а з у р н о м дрожат основанье…» [1, с. 419]; «… смуглым з о л о т о м Исакий смотрит дивно и темно…» [1, с. 314]; «… в Каире блещут стекла а л ы м глянцем…» [1, с. 323]; «Древняя обитель супротив луны, на лесистом взгорье, над речными водами, б л е д н о - с и н е в а т ы й мел её стены…» [1, с. 433]; «… з о л о т ы е отраженья дворцов в л а з у р н о м глянце вод…» [1, с. 456]; «… ж е л ч н о е лицо, - скользит под к р а с н о в а т о - ч ё р н ы м коком. Лоск костяной на лбу его высоком…» [1, с. 378]; «Подкрашенные ж ё л т ы е седины страшней всего…» [1, с. 412]; «Рубины мрачные цвели, ч е р н е л и в нём (в перстне. – О. К.), внутри п у р п у р н о -к р о в я н н ы е, алмазы вспыхивали р о з о в ы м о г н е м…» [1, с. 312]; «… блистал твой образ чудотворный в огнях м а л и н о в ы х лампад…» [1, с. 328]; «Из тонкогорлого фиала я з о л о т о е масло лью…» [1, с. 403]; «Метнулся р о з о в ы й огонь двух ж ё л т ы х суженных зрачков…» [1, с. 334]; «Пчелоеды, в з е л ё н о - с и н и х перьях, отдыхают на з о л о т и с т ы х нитях телеграфа…» [1, с. 361]; «Ч ё р н ы й бархатный шмель, з о л о т о е оплечье…» [1, с. 383]; «Так же будет залетать ц в е т н а я бабочка в щелку – порхать, шуршать и трепетать по г о л у б о м у потолку…» [1, с. 386].
И точно так же тонко Бунин ощущает и мир запахов1. В «Жизни Арсеньева» он замечает, что в юности отличал «запах росистого лопуха от запаха сырой травы» [5, т. 6, с. 120]. Примеров отражения этой стороны сенсорного мира меньше, но они по-бунински выразительны: «Поёт комар. Теплом и г н и л ь ю веет…» [1, с. 144]; «Струилась синяя река; б л а г о у - х а я, сохли травы…» [1, с. 180]; «Венки, лампадки, п а х н е т т л е н ь е м…» [1, с. 152]; «Грибы сошли, но крепко п а х н е т в оврагах с ы р о с т ь ю г р и б н о й…» [1, с. 39]; «Тепло и влажный блеск. З а п а х л и мёдом ржи…» [1, с. 42]; «П а х н е т мёдом, зацветает белая гречиха…» [1, с. 54]; «И в молодом березняке грибами п а х н е т и листвою…» [1, с. 55]; «Ветерок с полей тепло приносит, г о р я ч и й д у х лозины молодой…» [1, с. 57]; «А тополь тянется в открытое окно и л а д а н о м б л а г о у х а е т…» [1, с. 194]; «Люблю неясный в и н н ы й з а п а х из шифоньерок и от книг…» [1, с. 223].
х х х
В систему выразительных средств поэзии Бунина входит ещё и своеобразие построения фразы, особенности инверсий, драматургия стиха в целом, что можно кратко показать на примере разбора его знаменитого стихотворения «И цветы, и шмели…», являющегося, как упоминалось, для поэта своего рода программным: высказывание идёт от первого лица, поэт трагически трактует обычную для него тему «человек и природа». Потерпев неудачу в личной жизни и тяжело переживая чуждые ему перемены в жизни России (стихотворение написано в 1918-ом), Бунин воплощает данную тему в плане противопоставления общества людей, отталкивающего поэта, и мира природы, несущего ему утешение. Есть в стихотворении и нередкий для Бунина религиозный мотив подведения итогов жизни.
Удивительная музыкальность этого краткого стихотворения (всего две строфы в четырёхстопном анапесте) связана со строением каждого из предложений, входящих в строфы. Так, первая строка первой строфы разделена на отдельные стопы, а запятые между ними воспринимаются словно люфт-паузы («воздушные паузы» в музыкальном тексте), отчего возникает ощущение созерцательного покоя, тишины, что усиливается женским окончанием последней стопы. Во второй строке движение замедляется ещё и четырёхсложным словом «полуденный», а мужская рифма, завершающая строку, смягчена многоточием. В этой словесной живописи, конечно, присутствует любимая поэта «небесная краска» - лазурь, и один из «собеседников» поэта – шмель (вспомним: «Чёрный бархатный шмель, золотое оплечье…» [1, с. 383]. Третья и четвёртая строки первой строфы переводят автора от любования прошлым к мысли о неизбежном будущем: движение ускорено и усложнено включением прямой речи, которая здесь явно требует медленного внеэмоцио-нального прочтения – речь Всевышнего.
Вторая строфа резко контрастирует первой – нет покоя, созерцания картин природы, нет размышления, их сменяет душевный порыв: «и забуду я всё…» - «всё» суммирует то, что с болью отрицает поэт: его личную драму и драму нашего Отечества. Антитезой же «всему» выступает образ природы: «вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав…». Трагизм высказывания умножен тем, что поэт словно бы прощается с земной жизнью, надеясь найти утешение лишь за её пределами – в «милосердных Коленах Творца».
Выделим некоторые из средств выразительности, присутствующих в изложении. Метафора: «Милосердные колена» – тонкое метафорическое претворение мысли о милосердии Всевышнего. Инверсию находим в выражении «сына блудного». Аллитерация ясно прослушивается в фразе «от СладоСтных Слёз не уСпею ответить», что придаёт изложению мягкий, «слёзный характер». Эти и другие приёмы, тщательный выбор словесного материала, синтаксическая и инверсионная гибкость, звучная музыка слова, безупречность формы, первичная свежесть и ёмкость содержания, объединяясь, делают стихотворение Бунина «И цветы, и шмели…» одним из шедевров русской и мировой поэзии.
х х х
Теперь о вопросе, мимо которого не может пройти музыкант – о музыке на слова Бунина. Безусловно, музыкальность его стихов и их глубокая содержательность не могла не обратить на себя внимание композиторов. Здесь мы прежде всего назовём гениальные вокальные миниатюры С. Рахманинова – романсы «Ночь печальна» и «Я опять одинок». В них бунинское «слово» и рахманиновский «звук» органично соединившись, породили шедевры, по праву входящие в русскую музыкальную классику. Назовём также романсы Р. Глиэра «Ночь печальна», «Как светла, как нарядна весна», «Звёзды ночи весенней», «Снова сон», «Смерть», «Ночь идёт», «Тих и чуток предрассветный час», романс П. Берлинского «Ночь», эпизод из хорового цикла Б. Лятошинского «Из прошлого» («В старом городе»). В печати мелькнуло сообщение о том, что в творческих планах одного из ведущих российских композиторов С. Слонимского опера на сюжет бунинской повести «Митина любовь». Очевидно, что по мере хода времени, когда даже в эстрадных жанрах композиторы всё чаще обращаются к текстам выдающихся поэтов – А. Ахматовой, Н. Заболоцкого, Р. Бернса, стихам Бунина всё чаще будут находить музыкальный эквивалент.
х х х
В 1961 г. К. Паустовский, называя Бунина «первоклассным поэтом чистой, если можно так выразиться, «кастальской» школы…», вместе с тем, отмечал, что «его стихи до сих пор не оценены» [31, с. 91-92]. К сожалению, очень многие читатели предпочтут Бунину поэтов, стихотворения которых, как часто бывает, имеют весьма отдалённое отношение к поэзии – часто это лишь ритмованная и рифмованная лирико-бытовая проза (даже, скорее, публицистика).
Интерес к поэзии одного из крупнейших русских поэтов-классиков в советские времена постепенно рос. Об этом свидетельствует хотя бы то, что регулярно выходившие сборники прозы стихов Бунина очень быстро исчезали с прилавков. Увы, в наше время, когда наша «самая читающая в мире» страна стала «смотрящей» (в телевизор или компьютер) в книжных магазинах, число которых значительно уменьшилось, застаиваются на полках, нередко роскошно оформленные, творения великих мастеров литературы. Не составили исключения и сочинения Бунина. Причины такого положения известны – засилье западной попкультуры, тиражирование бульварной псевдолитературы (это для молодёжи), безденежье (это для старшего поколения).
И хочется надеяться, что наша страна на пути к тому, чтобы снова стать «самой читающей», чтобы каждая книга 300-тысячного тиража нашла своего понимающего, увлечённого и благодарного читателя, как это было с вышедшим в 1986 г. сборником стихов Бунина [1].
х х х
«Будущим поэтам, для меня безвестным, - писал Иван Алексеевич, - Бог оставит тайну – память обо мне…» [1, с. 428]. Эта надежда на значимость собственного творчества, выраженная со свойственным Бунину афористическим лаконизмом была небеспочвенной. Сегодня очевидно (повторим в заключение уже приводившиеся слова О. Михайлова), что Иван Алексеевич Бунин – «один из крупнейших русских поэтов нашего XX века» [25, с. 5]. И никакие новые имена, никакие творческие «новации и изыски» не заслонят мудрой и родниково-чистой поэзии великого русского мастера. Поэзия Ивана Алексеевича Бунина будет жить, пока живёт русский язык, а это значит – вечно.
Список литературы О поэзии Ивана Бунина
- Бунин И. А. Стихотворения и переводы. М.: Современник, 1986.
- Бунин И. А. Собрание сочинений. В 9 т. Т. 1. Стихотворения, 1886-1917. М.: Худож. лит., 1965.
- Бунин И. А. Рассказы. М.: Гослитиздат, 1956.
- Бунин И. А. Собрание сочинений: в 5 т. М.: Правда, 1956.
- Бунин И. А. Собрание сочинений: в 9 т. М.: Худож. лит., 1965-1967.