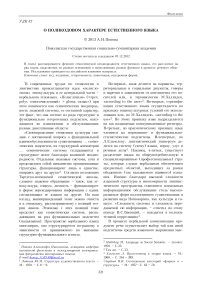О поликодовом характере естественного языка
Бесплатный доступ
В статье рассматривается феномен семиотической неоднородности естественного языка, его расслоение на ряд кодов, выделяемых по разным основаниям и выполняющих разные функции в процессе речевого общения. Исследование проведено на английском языковом материале.
Код, подъязык, гетерогенность, коннотация, внутренняя форма
Короткий адрес: https://sciup.org/148101406
IDR: 148101406 | УДК: 82
Текст научной статьи О поликодовом характере естественного языка
о
В современных трудах по семиологии и лингвистике провозглашается идея «полигло-тизма» этнокультуры и ее центральной части – вербального этноязыка. «Полиглотизм» (<греч. polys «многочисленный» + glossa «язык») при этом понимается как семиотическая неоднородность знаковой системы, ее составной характер, тот факт, что она состоит из ряда структурно и функционально гетерогенных подсистем, находящихся во взаимосвязи и обслуживающих разные денотативные области.
«Самоопределение семиотики культуры связано с постановкой вопроса о функциональной взаимообусловленности существования … семиотических подсистем, их структурной асимметрии … семиотические системы складываются в структурное целое благодаря взаимной неоднородности. Отдельные знаковые системы, хотя и представляют собой имманентно организованные структуры, функционируют лишь в единстве, опираясь друг на друга»1. Согласно положению Тартуско-московской семиотической школы, сложное знаковое образование – такое, как этнокультура, социум, личность – функционирует в форме перекодирования информации с одних составляющих ее языков на другие. На наш взгляд, вышеприведенный тезис можно отнести и к этноязыку, рассматриваемому с позиций теории знаков. Этноязык с этих позиций тоже предстает как семиотическая система, распадающаяся на ряд функциональных подсистем (подъязыков). Пространство вербального языка многомерно, оно структурируется по-разному в зависимости от принимаемого во внимание структурно-функционального аспекта.
Попова Александра Николаевна, аспирант кафедры английской филологии и межкультурной коммуникации факультета иностранных языков.
Во-первых, язык делится на варианты, территориальные и социальные диалекты, говоры и наречия в зависимости от контингента его носителей или, в терминологии М.Халлидея, «according to the user»2. Во-вторых, стратификация естественного языка осуществляется по признаку социокультурных условий его использования или, по М.Халлидею, «according to the use»3. По этому признаку язык подразделяется на так называемые коммуникативные регистры. В-третьих, по прагматическому признаку язык членится на нормативно- и функциональностилистические подсистемы. В-четвертых, по Л.Ельмслеву, лингвистический универсум делится на систему (схему) языка, норму, узус и речевые акты4. Наконец, в-пятых, существует разделение языка на общеупотребительную и специализированные (профессиональные) страты, которые служат вербальным обеспечением предметных областей, выходящих за рамки обыденного (так называемого наивного) сознания. Именно благодаря высокой сложности языковой структуры и многомерности лингвистического пространства становится возможным информационное обслуживание столь высокоразвитых форм коллективного существования и развития вида Homosapiens, как культура и социум. «Сложность системы и сложность передаваемой ею информации, – отметил по этому поводу В.С.Баевский, – находятся в положительной корреляции»5.
В процессе вербальной коммуникации продуцент речи осуществляет выбор той или иной подсистемы средств языкового выражения мыс- ли, исходя из социосемиотических и культурных условий протекания акта общения, а также из собственно коммуникативных намерений. Поскольку, как уже отмечалось, план выражения языка неоднороден, одно и то же объективное содержание может быть выражено несколькими альтернативными способами в зависимости от выбора говорящего / пишущего. При этом сам выбор становится прагматически значимым, приобретает смысл, но смысл уже иного, более высокого семиотического уровня. Структура языкового знака усложняется: над ней надстраивается новый семиотический ярус; когда это явление возникает в массовом масштабе, тем самым создается новая языковая подсистема, которую Л.Ельмслев назвал коннотативной семиотикой6.
Когда говорят о коннотативном компоненте семантики языковой единицы, обычно имеют в виду комплекс нормативно-стилистических, экспрессивных, эмотивно-оценочных сем. Однако К.А.Долинин, на наш взгляд, верно отметил, что «в общесемиотическом плане возникновение стилистического значения есть лишь частный случай явления коннотации»7. В широком смысле в качестве коннотации (< лат. con-notare букв. «со-означать») может выступать не только стилистическое, но и «дальнейшее» концептуальное содержание, надстроенное над исходным (в терминологии А.А.Потебни8 – «ближайшим»). В упомянутом смысле созначе-нием знака можно назвать «всякое коннотативное означаемое, чьим означающим выступает данный знак как единство денотативного означающего и денотативного означаемого»9.
Планом выражения осложненного знака является весь знак в его прямом значении. Из таких семиотически осложненных единиц состоят те подъязыки, которые в трудах представителей глоссематики называются коннотативными семиотиками, а в трудах ученых Тартуско-московской школы – вторичными кодами. К их числу принадлежат образная лексика, фразеология, фразеоматика, паремиология и другие подсистемы образных средств языка, а также, по нашему мнению, подъязыки профессиональных областей знания. Это связано с тем, что знаки таких подъязыков в качестве плана выражения имеют знаки первичного кода языка. Они создаются на базе «первичных» знаков путем надстраивания дополнительного смыслового пласта либо путем соединения «первичных» знаков (морфем, лексем) по словообразовательным и фразообразовательным моделям с приращением смысла. Например, на базе общеупотребительного английского слова defense «resistance against attack»10 возник юридический термин defense «a denial, answer, or plea opposing the truth or validity of the plaintiff’s case … done by introduction of testimony or other evidence designed to refute all or part of the allegations in civil or criminal pro-ceedings»11. Налицо семантическое приращение, превращающее слово обыденного языка во «вторичный знак». Другой пример: из лексических основ man- («human being») и -slaughter («slaying, massacre») образован юридический термин manslaughter («an unlawful killing of another person without malice aforethought … alternative to murder and not liable to death pe-nalty»). Значение этого термина содержательно богаче и сложнее суммы значений составляющих его лексических основ, что говорит о наличии приращенного смысла, образующего второй семиотический ярус. Из такого рода единиц в основном состоят профессиональные языки. Вот почему мы относим их к числу вторичных кодов наряду с подсистемами образных средств языка. В терминологии Л.Ельмслева это тоже коннотативные семиотики (в широком смысле этого наименования).
В связи со всем вышесказанным представляется необходимым остановиться на определении ряда понятий, входящих в категориальный аппарат нашего исследования. В семантике осложненного знака мы выделяем и разграничиваем реальное и номинальное значения. Реальное значение – это то, в котором знаки фактически употребляются в речи. Номинальное значение – это то, которое складывается из значений его составных частей (морфем, лексем) по стандартным правилам семантической комбинаторики (в традиционной терминологии – «сумма значений частей») либо, если знак грамматически не производен, его исходное (первичное, прямое) значение. Так, номинальным значением английского юридического термина navigable waters является «waters in which navigation is possible», а реальным значением – «wa- ters [which] form (in their ordinary condition by themselves or by uniting with other waters) a continued highway over which commerce is or may be carried on with other states or foreign countries in customary modes in which such commerce is conductedby water». Термин company имеет номинальное значение «number of persons assembled» и реальное значение ‘combination of individuals’ capital, skill and labour for the purpose of business carried on for such individuals’ common benefit’. Иногда номинальное значение термина совпадает с реальным значением его прототипа. В других случаях прототип не используется в речи. Например, у термина grandfather clause («provisions allowing persons, engaged in a certain business before the passage of an act regulating that business, to receive a license or prerogative without meeting all the criteria that new entrants into the field would have to fulfil») нет коррелята в обыденной речи, в то время как у термина exchange («bar-ter trade») имеется бытовой коррелят (прототип) exchange («giving/ receiving a thing in place for another»).
Понятие «номинальное значение» близко к понятию «ближайшее значение» (по А.А.По-тебне), но не тождественно понятию «внутренняя форма». Рассмотрим сущность внутренней формы знака.
Это понятие вначале использовалось в философии и трактовалось как «строение содержа-ния»12 или «ядро, суть содержания»13. В более новых терминах внутреннюю форму можно определить как структуру концепта, который в рамках когнитивистики понимается как любая единица содержания (понятие логическое, понятие эйдетическое, гештальт и т.д.). Система концептов функционирует в относительной автономии от системы ее языковых десигнаторов. Между первыми и вторыми нет полного взаимно-однозначного соответствия. Иными словами, они состоят в динамической корреляции и структурной асимметрии14.
Ряд лингвистов15 трактует внутреннюю форму языковогознака так же, как философы трактуют внутреннюю форму содержания. Так, Т.Н.Саная отмечает: «в динамическом аспекте внутренняя форма рассматривается как способ организации производного … значения»16. Согласно этой точке зрения, внутренняя форма знака – это и есть структура концепта. Однако вышеприведенные и многие другие языковые примеры свидетельствуют об ином. Концепт обладает собственной структурой (семным составом и комплексом межсемных связей), а внутренняя форма его языкового десигнатора лишь моделирует эту структуру. По Ю.М.Лотману, иконический знак (который по определению обладает живой внутренней формой) является моделью собственного содержания, то есть выражаемого им концепта17. Таким образом, можно заключить, что в плане содержания языковой знак имеет одну форму (то есть структуру концепта), а в плане выражения – другую, которая делится на внутреннюю (носящую семантический характер) и внешнюю (носящую звуковой или графический характер). Такая трактовка соответствует известному положению Ф.де Соссюра о наличии у знака двух форм и двух видов субстанции: на уровне означаемого и на уровне означающего18.
Тот факт, что ряд лингвистов считает две вышеупомянутые формы одной и той же формой, проистекает, на наш взгляд, из наблюдаемой во многих случаях конгруэнтности этих форм. Если модель изоморфна оригиналу, то она иногда становится неотличима от него. Например, структура юридического понятия «двойное гражданство» изоморфно передается внутренней формой английского термина dual citizenship. Однако это лишь частный случай отношения форм; во многих других случаях они не совсем (или совсем не) совпадают, и тогда становится очевидно, что это две формы. Например, юридический термин kickback имеет внутреннюю форму «a kick made in response to somebody else’s kick» и значение «the practice of a seller of goods or services paying the purchasing agent of those goods or services a portion of the purchase price in order to induce the agent to enter into the transaction» (ср. рус.откат). Как видим, имеет место лишь частичное взаимное наложение форм при их частичном несовпадении, что говорит об их нетождественности. Если внутренняя форма знака не конгруэнтна структуре концепта, мы имеет дело с двойным («стереоскопическим») видением объекта номинации (в рамках концептуальной и языковой картин мира).
Вслед за К.А.Долининым19 и А.И.Нови-ковым20 мы считаем внутреннюю форму не частью означаемого, а частью означающего, но такой частью, которая моделирует строение означаемого.
Согласно нашей трактовке, внутренняя форма знака – это функциональный аспект его номинального значения, а именно номинальное значение, выступающее в функции мотиватора реального значения, причем не всякого, а данного, отдельно взятого значения. Одно и то же номинальное значение может служить в качестве разных внутренних форм разных значений знака, если в основу мотивировки реальных значений ложатся разные семы номинального значения. Например, термин drug abuse, трактуемый в медицинском смысле, означает нанесение вреда собственному здоровью путем приема наркотических препаратов, а трактуемый в юридическом смысле – как незаконное и уголовно наказуемое обращение с ними. В основе мотивировки этих реальных значений лежат разные семы, входящие в номинальное значение данного устойчивого словосочетания. В приведенном примере одно и то же номинальное значение выступает в качестве двух разных внутренних форм двух реальных значений знака. В других случаях два и более реальных значения знака бывают мотивированы одной и той же гранью номинального; в этих случаях знак имеет не только одно номинальное значение, но и одну и ту же внутреннюю форму во всех ЛСВ. Так, оба реальных значения существительного bondsman (1. «serf or slave»; 2. «one who is bound to pay money or perform other acts … [and] is directly liable for the debt») мотивированы одним и тем же буквальным значением лексической основы bond – («thing restraining bodily freedom»).
Разновидностью номинального значения является образная основа знака. Л.А.Коралова так определяет понятие лингвистического образа: «созданное средствами языка двуплановое изображение, которое основано на выражении одного предмета через другой»21. Следуя этому определению, можно заключить, что образной основой может считаться номинальное значение лишь такого знака, чье реальное значение является переносным (метафорическим, метонимическим и т.п.). Такие знаки встречаются и в терминологии (в том числе юридической), и особенно в профессиональных жаргонах. Например, kangaroo court («a court that disregards human rights, is biased against a party and thus renders and unfair judgment»); four corners («the doctrine that requires that a meaning of a document be derived from its entire contents»); blue chip stock («the common stock of a company known nationally for the quality and wide acceptance of its products or services»).
Внутренняя форма знака, находясь между его значением и его внешней формой, мотивирует и то, и другое. Она «указывает на причину, по которой данное значение оказалось выраженным именно данным сочетанием зву-ков»22. Она диктует выбор средств выражения для заданного содержания, то есть, в конечном счете, обеспечивает формирование общей структуры языковой единицы. Это приводит к тому, что разноязыковые эквиваленты, имеющие разные внутренние формы, состоят из разных десигнатов, несущих одно и то же содержание. Например, англ. plaintiff (
В завершение всего изложенного отметим, что этноязык располагает рядом профессионально ориентированных подъязыков, надстроенных над общеупотребительным языком и потому относящихся к числу вторичных кодов этноязыка. Их знаки обладают усложненной структурой по сравнению собщеязыковыми прототипами и выполняют специфические функции.
ON THE POLYCODE NATURE OF NATURAL LANGUAGE
Список литературы О поликодовом характере естественного языка
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. -М.: 1970. -С.8 -9.
- Halliday M. Language as Social Semiotic. -London: 1978. -С.23. Там же. -С.23.
- Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка. -М.: 1960. -С. 264 -389.
- Агудова В.В. Соотношение категорий «форма» и « структура». -М.: 1977-С. 62 -70.
- Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка//Новое в лингвистике.-М.: 1960. -С. 368 -373.
- Долинин К.А. Стилистика франц. языка. -Л.: 1978. -С.94.
- Потебня А.А. Эстетика и поэтика. -М.: 1976. -С.614.
- Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка…. -С. 90.
- Collins English Dictionary. -Glasgow: 1975. -С. 1264.
- Law Dictionary by S.H.Gifits. -London: 1996. -С. 561.
- Гегель Г. Сочинения. -М.: 1930. -С.244.
- Агудова В.В. Соотношение категорий «форма» и « структура»//Вопросы философии. М.: 1977.-С. 66.
- Карцевский С.И. Об асимметричном дуализме лингвистического знака. -М.: 1965. -С. 264 -389.
- Саная H.Т. Роль ассоциативно-обpазного этапа в пpоцессе фоpмиpования связанных значений слов. -М.: 1990. -С. 124.
- Лотман Ю.М.Культура как коллективный интеллект и проблемы искусственного разума. -М.: 1977. -С.31.
- Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. -М.: 1998. -С.360.
- Долинин К.А. Стилистика франц. языка. -Л.: 1978. -С.94.
- Новиков А.И. Знание в системах общения. -М.: 1989. -С.95.
- Коралова А.Л. Семантическая природа образных средств в современном английском языке. -М.: 1975. -С.41.
- Лингвистический энциклопедический словарь. Внутренняя форма слова. -М.: 1990. -С. 85 -86.