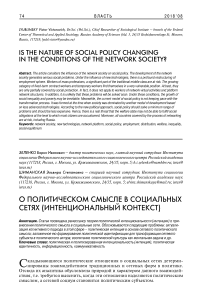О политическом смысле в социальных сетях (интенциональный контекст)
Автор: Зеленко Борис Иванович, Шиманская Эльвира Степановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Коммуникации и общество
Статья в выпуске: 8, 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена ренессансу теории политической интенциональности (интенции) о привнесении политического смысла в социальные сети. Обосновываются следующие проблемы: актуализация когнитивного подхода в этой сфере - политическая интенция в основе сетевого политического смысла; заложенное ею формирование политической идентификации для трансформации сетевого субъекта в политического актора; воспитание политической культуры как ментальная задача и др.
Политическая и политизированная интенциональность (интенция), политическая идентичность, информационность, коммуникативность
Короткий адрес: https://sciup.org/170171298
IDR: 170171298 | DOI: 10.31171/vlast.v26i8.6047
Текст научной статьи О политическом смысле в социальных сетях (интенциональный контекст)
С кладывающиеся политические отношения в социальных сетях детерминированы взаимодействием традиционных и сетевых форм в политике.
Отсюда их аналитика обусловлена природой и характером данного взаимодействия, т.е. требуется выяснить, когда эти отношения наделяются политическим смыслом, а сетевой социум становится политическим субъектом.
В литературе [Михайлов 2015] давно уже констатируется, что сетевая парадигма есть трансдисциплинарная методология, применяемая в исследовании общественного сознания и общества в целом. Она не является философской теорией в строгом смысле, поэтому ее зачастую рассматривают как нестандартную стратегию концептуального анализа. Как следствие, отсутствуют четкие представления о субъектно-объектной детерминации политики внутрисетевого социума. Отношения в виде сетевых субъекта-объекта и субъекта-субъекта в политическом опосредовании размыты и не сфокусированы.
Например, это можно видеть в отношениях субъекта (сетевой человек, сетевой социум, «нетократия», «консьюмериат» и др.) и объекта (традиционный социум, власть, информационность, коммуникативность, и т.д.), т.е. вопрос, когда сетевой индивид становится политическим субъектом внутри сети, остается без внятного ответа.
В какой-то степени попытка трансляции политических импульсов внутри сетей и вне их в политологии обозначена. Утверждается, что «дискурсивные практики сетевых онлайн-сообществ и гражданской журналистики проникают в глубины социальных структур, превращая индивидуальных акторов локальных сообществ в носителей “новых фреймов” гражданского участия, что ведет к актуализации сетей гражданской мобилизации и ризомной самоорганизации. Возникновение сетевых онлайн-сообществ способствует усложнению сетевого ландшафта российской публичной политики, где все ландшафтные звенья, существующие в различных темпоральных режимах, начинают взаимодействовать на основе сетевой коммуникации, что способствует разгерметизации закрытых сетевых структур и их включению в производство общественных благ и гражданского партнерства» [Мирошниченко 2013].
Корреляция сетевого дискурса с гражданской журналистикой в «политтворении» сетевого ландшафта преувеличена. Профессиональная противоречивость журналистского корпуса, носящая зачастую неоконформистский характер, – свидетельство этому. Вывод же о «разгерметизации» закрытых сетей вообще абстрактен и далек от эвристического наполнения.
Эвристика же нацеливает на обращение к феноменологии, где существует определенная методология, вытекающая из теории интенциональности. Развитие понятия «интенциональность» (интенция) фиксируется в феноменологической традиции от Брентано через Гуссерля и Хайдеггера к Сартру и Мерко-Понти. Интенциональность — философское понятие, означающее центральное свойство человеческого сознания — быть направленным, воздействующим на некий объект. При этом создается смыслоформирующее отношение субъекта к объекту.
Интенциональность – это акт придания объекту смысла, в нашем случае – политического. Имеется в виду привнесение политического смысла в сетевые отношения. Здесь можно говорить о наметившимся в последнее время некоем ренессансе.
Вопросы конституирования политической интенциональности находятся в поле зрения современных феноменологов. Так, в Центре гуманитарных технологий известными философами П.И. Гайденко, С.С. Неретиной, Е.В. Востриковой, Н.В. Мотрошиловой подготовлена электронная публикация «Интенциональность», защищена диссертация Н.А. Бондаренко «Интенциональность социального поведения как философская проблема» и т.д. По теоретическим воззрениям к ним примыкает исследование, проведенное А. Пятигорским. По его мнению, именно методологическая зыбкость и теоретическая слабость современного политического мышления определяет характер текущей политической жизни [Пятигорский 2010].
Исходя из идеи универсальности политики и критикуя нынешнюю ситуацию, А. Пятигорский обоснованно считает необходимым использование центрального понятия классической феноменологии – понятия интенциональности. Политическая интенциональность как уже готовая направленность индивидуального мышления на все – как на политику, так и на себя самое – оказывается определяющей. Это подготовило политическое мышление к универсализации смысла как политического, что является решающим моментом в неразвитом нерефлексивном мышлении среднего политического индивида. Чрезвычайно трудным оказывается переход от политического мышления отдельного субъекта к интерсубъективному (коллективному) политическому мышлению и наоборот. Эти переходы в мышлении происходят по сложным правилам смены одного состояния сознания на другое, одной практической ситуации – на другую, а иногда даже одного типа мышления – на другой [Пятигорский 2010].
Иначе говоря, феноменология политической интенциональности требует соответствующего современного когнитивного подхода. Научная интерпретация в этой области специфична своей утилитарностью. Речь зачастую идет о смысле политического воздействия в сетях или вне их в узко технологическом плане. Исключением является вывод, который содержится в упомянутой работе Н.А. Бондаренко: именно интенциональностью обусловлена такая особенность социально-политической жизни, как «объяснимость человеческого действия». В современных российских реалиях происходит дефеноменологизация – кризис индивидуального и общественного сознания, выраженный в утрате рефлексивно-смысловых интенций. Фрустрация, парадоксы и противоречия общественно-политического сознания являются проявлением глубинных деструктивных процессов. Выход из кризиса смысла, в частности политического, возможен лишь как результат интенционального приобщения к истокам культуры вообще и политической культуры в частности [Бондаренко 2010].
Согласимся с Н.А. Бондаренко в том, что конкретно-исторический характер интенционального поведения состоит в мотивационной обоснованности жизненного мира личности. Интенциональность в системе необходимых качеств социальности как таковой ведет к оправданности социального, а в нашем случае – политического поведения. Автор констатирует синтез двух когнитивных парадигм – аналитической философии и феноменологической социологии. Сочетание последних способствует раскрытию интенциональности социального поведения, что свидетельствует об эвристических и универсалистских потенциях эпистемологической и методологической парадигм.
Для нас это существенно, поскольку осознание значимости политического смысла в социокультурной динамике привело к функционалу политической социологии и политической философии именно в коммуникативном плане. Это создает методологические предпосылки изучения социального-политиче-ского поведения субъекта внутри и вне сетевого ландшафта.
Коммуникативное действие на основе этих парадигм приближает к пониманию «политтворения» смысла в сетевом поле. Этому способствуют модели, включающие в себя сетевые компоненты процесса выработки политики. Это, к примеру, модель открытых систем, построенная на идее «воронки причинности»; модель институционального рационального выбора; модель политических потоков в части, касающейся потока – «сообщества», описываемого в качестве сети участника выработки политики. Попытку синтеза многих идей представляет модель конкурирующих защищающих коалиций. Именно она чаще всего берется в качестве основы сетевого политического анализа.
Модели, «создающие» политику, объединены технологизмом и процедурно-стью. В стороне остается интенциональный контекст, интерпретирующий суть политического смысла в социальных сетях. А без этого в них нельзя обнаружить политическую идентификацию индивида, способствующую превращению сетевого актора в политический субъект.
Феномен «идентичность» появился в политической науке в середине XX в. С этого времени можно считать, что политология находится в поиске системы координат политического самоопределения участников политического процесса. Специалисты выделяют три базовых кластера этого понятия [Тимофеев 2010]. Во-первых, политическая идентичность как совокупность политических принципов, служащих ответом на вопрос: «Кто мы?» Во-вторых, как совокупность представлений, задающих уникальную сущность государства через соотнесение со значимыми «другими» («мы — они»), через маркирование символических границ. В-третьих, как совокупность представлений о прошлом политического сообщества, об исторических событиях, значимых для граждан, и осознания ими своей политической общности.
И.С. Семененко формулирует определение политической идентичности как комплекса «идейно-политических ориентаций и предпочтений, которыми субъекты политического процесса наделяют друг друга в процессе коммуникации, и предполагает отождествление носителя политической идентичности с тем или иным политическим сообществом. Она утверждается во взаимодействии с политическими институтами и реализуется в публичной сфере» [Политическая идентичность… 2012].
В основе анализа политической идентификации рассматривается политическая культура, куда, во-первых, относятся оценки провластных институтов, норм и лиц, их представляющих [Попова 2002]. Во-вторых, в структуре наличествуют политические идентификации как ощущение сопричастности основным политическим объектам (партиям, нации, государству, политической организации, религиозному институту и т.д.). В-третьих, учитывается степень доверия (принятия) тех людей, с которыми приходится взаимодействовать в политической жизни. Далее, отмечаются нормы поведения в повседневной политической практике, зачастую расходящиеся с юридическими нормами и процедурами в политической жизни. Последняя группа включает отношения самого индивида к факту собственного участия в политике (компетентность), к оценке ее результативности (эффективного политического участия). Перечисленные элементы социальной структуры выступают агентами политической идентификации. Они призваны передавать индивиду образцы поведения, нормы и ценности, определяющие его принадлежность к тому или иному политическому сообществу.
Сказанное экстраполируется и на сетевое пространство.
Для сети политическая идентичность является одним из наблюдаемых феноменов. Проблематика политической идентичности индивида имеет непосредственное отношение к формированию социальной структуры политической коммуникации в онлайн- и офлайн-формате. От того, как себя представляют акторы, в конечном счете, зависит и смысловое наполнение деятельности виртуальных сетевых сообществ различаемыми политическими идеями [Бондаренко 2005; Михайленок, Щенина 2018].
Находясь в сетевом пространстве, индивиды постоянно подвергаются открытому и скрытому политическому воздействию с целью формирования их политической идентичности. Это воздействие представляет собой направленную политическую деятельность со стороны всех участников политического процесса, каждый из которых имеет свою аудиторию в виртуальном пространстве. Действия подобных политических акторов осуществляются как в интересах данной сложившейся политической системы, так и против нее.
Приведенный дискурс идентичности, хотя и усеченно, позволяет заключить, что формирование политической идентичности в социальных сетях заложено политической интенциональностью, привнесением политического смысла в сознание сетевого индивида.
Политическая идентичность также служит маркером политической субъектности, легитимируя ее. Другими словами, именно в этом случае происходит трансформация сетевого индивида в политический субъект как внутри сети, так и вне нее.
В данном случае политическая интенция служит для достижения субъектности политических сетей в целях институционализации из «горизонтали» в «вертикаль», а далее – легитимации в политическом поле, т.к. традиционное общество в настоящее время отчасти делегитимировалось из-за своей сверхполитизированности. Последнего не избежали и социальные сети, развитие которых обусловлено процессами политической интенции, отличающимися своей спецификой.
Здесь имеются в виду существующие сетевые сообщества, прежде всего с политизированной интенцией. Это означает усиление влияния квазиполитического смысла во многих сферах жизни. Его функционал раскрывается через следующе нормативы: как технология и как политическая ангажированность. Под технологией подразумевается использование общественных ресурсов в политических целях, политические процедуры и т.д. Ангажированность же выступает как ретранслятор властных интересов и индикатор ожиданий электората.
Если рассматривать политическую интенцию как привнесение смысла в поведение общественных групп, то политическое в этом случае выступает как предмет общественного обсуждения и публичного столкновения интересов.
Преобладание интенциональности сетевой политизированности над политической сдерживает динамику сетевых политических отношений. Политизированность сетевого человека через его ангажированность приводит к потере политического измерения. Сетевая политизированность, заметим, ближе к сетевой пропаганде. В таком случае наблюдается сверхполитизация сетевой жизни, где отсутствует смыслообразующая интенция собственно политического. Как результат, политика трансформируется в некий симулякр.
В этом смысле ангажированность не должна перерасти в политическое, в сведение политических счетов, политическую конфронтацию и поляризацию сил. Преступая определенную грань, политизированность препятствует развитию нормальной жизнедеятельности общества.
С другой стороны, необходимо сохранять политическую интенцию там, где без нее нет развития и динамики. Это важно в условиях кризиса, когда политический смысл отсутствует, прежде всего, в представлениях нации о самой себе и собственном государстве.
Иллюстрацией этому послужили протестные движения 2012 и 2017 гг., когда преобладали политизированные смыслы, а не политические интенции. Здесь сработал технологический норматив политизированности. Ангажированность транслировала интересы сетевых лидеров, так называемой нетократии. Кто они: владельцы или пользователи каналов, блоггеры, агенты-посредники или протестные политики? Ответы находятся только в стадии формулирования, что недостаточно для научной интерпретации и аналитики.
Современное сетевое сообщество находится больше в зоне политизированной, а не политической действительности. Поэтому сетевые движения не скоро приобретут политическую интенциональность, смыслообразующее политиче- ское воздействие в социальных сетях. Во всяком случае, для политологического анализа важно не пропустить в социальных сетях начало процесса перехода от интенции политизированного смысла к интенции политической.
Привнесение политического смысла в социальные сети – это не спонтанный процесс. Феноменология политической интенциональности требует соответствующей актуализации когнитивного подхода. Не случайно Л.В. Сморгунов, говоря о научении в сетях политическим знаниям, основной социальной группой будущего называет «когнитариев» [Сморгунов, Шерстобитов 2014].
Когнитивистика обращается к комплексному анализу процессов познания и формированию знания. При этом теория политической интенциональности является, во-первых, основой сетевого политического смысла, во-вторых, без нее сложно обнаружить политическую идентификацию индивида, способствующую превращению сетевого субъекта в политического актора. И главный ее функционал заключается в воспитании политической культуры как главной ментальной задачи.
Сложность здесь состоит в том, что сетевой индивид выступает в двойном статусе: как сетевой актор и как субъект традиционного общества. В сетевом сообществе отношения становятся политическими вследствие конвергенции, диффундирования и взаимодействия с традиционным обществом, его институтами и акторами. Это соотносится с фактом наделения социальных сетей политической субъектностью посредством интенции, хотя и при отсутствии в них известной институциональности.
Подчеркнем, что основным моментом сетевого анализа публичной политики является определение взаимосвязей между структурой сетевого взаимодействия и результатами выработки и принятия политико-управленческих решений.
Последние, по существу, касаются отношений по поводу власти, причем при современном противостоянии институционализированной и легитимной власти и виртуальных политических сетей.
В этом случае, как свидетельствует аналитика, политической власти будет трудно решиться на реализацию принципа разделения политических решений [Василенко 2010]. Но, как свидетельствует политическая история, ей так же трудно было решиться на использование системы разделения властей. Острый процесс перераспределения властных полномочий придется преодолеть ради эффективного функционирования политической власти в обществе.
Список литературы О политическом смысле в социальных сетях (интенциональный контекст)
- Бондаренко С.В. 2005. Политическая идентичность в киберпространстве. - Политическая наука. № 3. С. 76-92
- Бондаренко Н.А. 2010. Интенциональность социального поведения как философская проблема: дис. … к.филос.н. М. 160 с
- Василенко И.А. Политическая философия: учебное пособие. М.: Инфра-М. 320 с
- Мирошниченко И.В. 2013. Социальные сети в российской публичной политике: дис. … д.полит.н. М
- Михайленок О.М., Щенина О.Г. 2018. Антропологическое измерение политики: новый «сетевой человек». - Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). № 2. С. 1-14