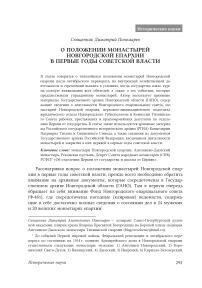О положении монастырей Новгородской епархии в первые годы советской власти
Автор: Пономарев Димитрий Анатольевич
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 1 (72), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье говорится о тяжелейшем положении монастырей Новгородской епархии после октябрьского переворота, их внутренней хозяйственной деятельности и стремлении выжить в условиях, когда государство взяло курс на полную ликвидацию всех обителей, а также о тех событиях, которые предшествовали упразднению монастырей. Автор использует архивные материалы Государственного архива Новгородской области (ГАНО), содержащие сведения о деятельности Новгородского епархиального совета, монастырей Новгородской епархии, церковно-ликвидационного подотдела юридического отдела Новгородского Губисполкома и Комиссии Тихвинского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов по отделению Церкви от государства. В статье также используются архивные материалы Российского государственного исторического архива (РГИА) Канцелярии Патриарха Тихона и Священного Синода, а также сведения из документов Государственного архива Российской Федерации, касающиеся деятельности монастырей и закрытия в них церквей в первые годы советской власти.
Монастыри новгородской епархии, антониево-дымский монастырь, реконская пустынь, декрет совета народных комиссаров (снк) рсфср "об отделении церкви от государства и школы от церкви"
Короткий адрес: https://sciup.org/140190265
IDR: 140190265
Текст научной статьи О положении монастырей Новгородской епархии в первые годы советской власти
В частности, в этих документах содержатся сведения о наличии земли, инвентаря, хозяйственной деятельности обителей, наличии у них капиталов. В них в обязательном порядке присутствовала историческая справка, где указывались даты постройки и ремонта зданий обителей. Есть сведения о духовной жизни монастырей, совершении в них богослужений, послужные списки насельников. В общем и целом, поражает обилие статистических данных, где учитывалось практически все, что касалось жизни монастырей, вплоть до сумм тарелочных сборов. Количество проданных свечей, просфор и вина для служб, лампадного масла, дров для отопления помещений и т. д., и т. п. — все эти сведения присутствуют в ведомостях монастырей.
В документах фонда № 481 содержатся многочисленные рапорты благочинных монастырей и их настоятелей, а также выписки из решений епархиального совета по результатам их обращений.
Мы знаем, что после октябрьского переворота кардинально изменилось общее положение дел во взаимоотношениях Церкви и государства. После начала большевистского террора 20 января 1918 г. Святейший Патриарх Тихон обратился с посланием к верующим, которое было зачитано на заседании Поместного Собора, все еще заседавшего в Москве. В послании Патриарха мы видим такие слова: «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей — земной. Властию, данной нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви Православной. Заклинаю и всех вас, верных чад Православной Церкви
-
7 ) Кирилло-Новоезерский, 8) Мало-Кириллов Новгородский, 9) Моденский, 10) Нико-ло-Беседный, 11) Нило-Сорская пустынь, 12) Отенский, 13) Перекомский, 14) Савво-Ви-шерский, 15) Сковородский, 16) Старорусский, 17) Тихвинский Большой, 18) Троицкая Реконская пустынь, 19) Филиппо-Ирапская пустынь, 20) Хутынский, 21) Юрьевский, 22) Воскресенский, 23) Железковская пустынь; женские: 1) Горицкий, 2) Новгородский Десятин, 3) Деревяницкий, 4) Новгородский Зверин, 5) Званский, 6) Леушинский, 7) Ко-роцкий, 8) Новгородский Свято-Духов, 9) Сырковский, 10) Тихвинский Введенский, 11) Валдайский Успенский, 12) Ригодищский, 13) Косинский, 14) Рдейская пустынь, 15) Ферапонтов, 16) Парфеновская община, 17) Филаретовская община, 18) Тиховская община, 19) Клопский, 20) Черноезерская пустынь (Ведомость о монашествующих, послушниках монастырей Новгородской епархии // ГАНО. Ф. 480. Оп. 1. Д. 3975. Л. 1).
Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение…»2
В тот же день в Петрограде стало известно об обращении Патриарха Тихона. К ночи было созвано заседание Совнаркома, которое в спешном порядке рассмотрело проект Декрета «О свободе совести, церковных и религиозных общинах». С рядом поправок проект был принят, а утром 21 января опубликован в «Правде» и в «Известиях»3.
По сути это был первый законодательный акт РСФСР, воплотивший в себе «программные требования коммунистической партии по отношению религии и Церкви…». Декрет Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» был отредактирован лично В. И. Лениным и стал на долгие времена базой для развития вероисповедной политики государства, ее конституционно-правовых основ4.
Декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» или, как его еще называли, «О свободе совести, церковных и религиозных обществах», содержал 13 немногословных статей, в которых последовательно проводился принцип отделения Церкви от государства и школы от Церкви5. В соответствии с этим документом каждый гражданин мог исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, РПЦ теряла свой привилегированный статус. Провозглашалась свобода совести, отменялись преимущества или привилегии на основании вероисповедания. Преподавание религиозных вероучений в школах любого типа было запрещено. Любые дотации Церкви со стороны государства были отменены. До революции они достигали 35 млн рублей из общего дохода в 110 млн рублей по состоянию на 1914 г.6 По этому декрету религиозным сообществам запрещалось владеть собственностью, они теряли право юридического лица7, а также происходила национализация всего церковного имущества8. Кроме того, советская власть создавала специальные учреждения, призванные непосредственно решать связанные с Церковью вопросы или, точнее говоря, осуществлять руководство в борьбе с ней9.
Как повлияло на жизнь монастырей «победоносное» шествие советской власти? Как они смогли адаптироваться в этих сложных условиях кардинального изменения взаимоотношений Церкви и государства?
На все эти вопросы мы можем найти ответы в документах фондов вновь образованных органов государственного управления Новгородской губернии тех лет. В частности, сведения о монастырях имеют место быть в фондах Отдела юстиции Новгородского губисполкома (ГАНО, Ф. Р-268), где содержатся отчеты, доклады, сводки и т. п. о работе церковно-ликвидационного подотдела губотдела юстиции, о выполнении Декрета ВЦИК об отделении Церкви от государства. Есть сведения о положении новгородских церквей и монастырей в Фонде отдела управления Новгородского губисполкома (ГАНО, Ф. Р-269). Циркуляры, протоколы и переписка президиума исполнительного комитета с губернскими и уездными учреждениями по вопросам церквей и монастырей, переписка с НКВД РСФСР о выявлении и передаче церковного имущества, переписка губисполкома с ВЦИК, ответы на ходатайства верующих и т. д. содержатся в документах Новгородского губисполкома за 1917–1927 гг. (Ф. Р-822).
Итак, непосредственно обратимся к рассмотрению положения дел в монастырях Новгородской епархии и сделаем это на примере описания небольшого заштатного Антониево-Дымского монастыря, расположенного в Тихвинском уезде. Правда, необходимо указать, что Декретом Совнаркома от 27 января 1918 г. «О порядке изменения границ губерний, уездов и проч.» Тихвинский, Белозерский, Устюженский, Кирилловский и Череповецкий уезды вошли в состав вновь образованной Череповецкой губернии10, но Дымский, как и другие тихвинские монастыри, все равно, вплоть до своего упразднения, продолжал оставаться в составе Новгородской епархии и подчиняться Новгородскому епархиальному совету, о чем свидетельствуют многочисленные документы фонда № 481 (ГАНО).
Чтобы понять, как жил монастырь сразу после октябрьского переворота, обратимся к ведомостям обители, представленным в Новгородский епархиальный совет за 1918 г. Согласно документам «О приходе, расходе и остатке штатных и неокладных сумм наличными деньгами и билетами кредитных учреждений» в 1918 г. общий доход заштатного Антоние-во-Дымского монастыря достиг 24 062 рублей 06 копеек. Обителью было израсходовано на собственные нужды 20 972 рубля 44 копейки. Остаток денежных средств на конец 1918 г. составил 3089 рублей 62 копейки. Кроме того, монастырь в 1918 г. в банковских кредитных билетах обладал суммой в 89 878 рублей11. Причем и в предыдущем 1917 г. монастырь полностью смог покрыть все свои расходы. Остаток денежных средств после всех выплат, сделанных в 1917 г., составил 1728 рублей 28 копеек12.
По состоянию на 1918 г. монастырь владел 306 десятинами 1511 саженями земли, из которой собственно под монастырскими строениями, садом, огородом и кладбищем было занято 3 десятины 30 саженей13, под пахотой — 32 десятины 1350 саженей, сенокосом — 37 десятин 606 саженей. Лесных угодий за монастырем числилось 194 десятины 1291 сажень и неудобий 39 десятин 634 сажени14. Лес в основном использовался для мелкого ремонта (например, для исправления мельницы, принадлежавшей монастырю; для починки мостов на дорогах, ведущих к обители; для ремонта полов монастырских строений и т. д.) и для заготовки дров15.
В 1918 г. насельниками монастыря было посеяно на своих полях 70 четвериков ржи16, а собрано 230 четвериков, что составляет почти 29 с половиной тонн зерна. Кроме того, было получено урожая: 300 четвериков капусты (38,4 т), 10 четвериков огурцов (1,28 т), 30 четвериков свеклы (3,84 т), 320 четвериков овса (40,9 т), 9 четвериков лука (1,15 т), 200 четвериков картофеля (25,6 т). Было накошено для 5 имевшихся в обители лошадей и 17 коров 200 возов сена17. При 17 монашествующих и 10 рабочих в пересчете на одного работающего соответственно было произведено по тонне ржи, 1,42 т капусты, 47,4 кг огурцов, 142 кг свеклы, полторы тонны овса, 42,6 кг лука, 948 кг картофеля, 7,4 воза сена!
При анализе статей доходов, которые получал заштатный Антони-ево-Дымский монастырь, можно прийти к выводу, что обитель существовала за счет двух основных видов деятельности. Монастырь активно работал в сельском хозяйстве, причем поля, огороды и сенокосные угодья под руководством настоятеля обрабатывались в основном братией (17 чел.) совместно с наемными рабочими (10 чел.). Денежными суммами и оплатой труда рабочих распоряжался казначей18. И соответственно обитель имела доходы от своей непосредственной религиозной деятельности.
Так, за 1918 г. доход от продажи продуктов сельского хозяйства составил 12 210 рублей 05 копеек, а сумма пожертвований от молебнов и записок — 2049 рублей 43 копейки. Пожертвований на помин души за 1918 г. монастырь получил на сумму в 225 рублей. Тарелочные сборы дали 11 рублей 47 копеек. Доход от часовни составил 302 рубля. Доход от купален на Дымском озере — 11 рублей 47 копеек. Случайных разных поступлений монастырь получил на сумму 320 рублей 42 копейки19. Кошельковый сбор дал обители 111 рублей 51 копейку. Кружечный сбор составил 518 рублей 72 копейки. Процентов с капиталов по кредитным билетам монастырь получил на сумму 32 рубля 93 копейки. Доход от монастырской гостиницы для паломников составил 1299 рублей 22 копейки. От продажи икон и книг было получено 246 рублей 50 копеек. От продажи свечей — 4976 рублей 30 копеек20.
Если подсчитать общую сумму денежных поступлений, которую монастырь получил от своей религиозной деятельности, то от молебнов, записок, продажи свечей, икон, книг и т. д. общий приход составил 10 140 рублей 40 копеек. Кроме того, здесь необходимо учитывать, что на закупку свечей в 1918 г. было истрачено 1301 рубль 80 копеек21. Книги и иконы также необходимо было закупать для продажи. Для проведения богослужений тоже нужно было приобрести в 1918 г. ладана, вина и лампадного масла на сумму 862 рубля 58 копеек, муки и дрожжей для просфор на сумму 270 рублей 97 копеек, а для покупки утвари затратить 20 рублей. Потому сумма прибыли от религиозной деятельности составляет без учета сумм, затраченных на осуществление этой деятельности, 7685 рублей 05 копеек.
Если учитывать, что монастырь затратил еще 422 рубля 90 копеек на исправление сбруи и покупку сельскохозяйственного инвентаря,
566 рублей 68 копеек на покупку, дополнительно к производимому, фуража для животных, 257 рублей 12 копеек на приобретение семян, 100 рублей на ремонт мельницы, то, за минусом зарплаты постоянным рабочим, которая составила 2709 рублей 62 копейки в год, и временным рабочим, которая составила 1765 рублей 75 копеек, то прибыль от сельскохозяйственной деятельности примерно равна прибыли от религиозной и составила 6387 рублей 98 копеек.
Здесь необходимо еще обратить внимание на тот факт, что постоянный рабочий в Дымском монастыре в среднем получал 270 рублей в год! Для сравнения скажем, что приходской священник ближайшей к Дымскому монастырю Никольской церкви Дымского погоста в 1918 г. мог воспользоваться вместе со штатным псаломщиком для собственного пропитания лишь кружечным сбором в размере 400 рублей, процентами от капиталов прихода в размере 36 рублей 86 копеек и 60 рублями дохода, который приносила церковная земля. Жалования им в 1918 г. не выплачивалось. Таким образом, зарплата рабочего Антониево-Дымского монастыря была примерно равна доходам священника ближайшей сельской церкви22, прихожанами которой, не считая детей, числилось 1121 взрослый мужчина и 1196 женщин23.
После знакомства с данными цифрами мы можем прийти к закономерному выводу, что Дымский монастырь обладал достаточно эффективным сельским производством, но покрывать все свои затраты только из доходов от одной религиозной деятельности он бы не смог.
Так, например, дополнительно необходимо было выплатить содержание 17 насельникам в размере 1730 рублей (практически на 1000 рублей меньше, чем 10 постоянным рабочим, или ровно столько же, сколько выплачивалось нанимаемым временным рабочим); затратить 1007 рублей 91 копейку в год на отопление (дрова) и освещение; 222 рубля 60 копеек на приобретение кухонной посуды24; 145 рублей на ремонт дорог, тротуаров и мостов; 6257 рублей 91 копейку на содержание трапезной и столовой для братии и богомольцев, которых монастырь кормил без оплаты; заплатить 6 рублей 32 копейки земского сбора25; на командировочные издержки и канцелярские принадлежности истратить 263 рубля 6 копеек; на мелочные и случайные расходы — 1116 рублей 73 копейки; заплатить налогов (на содержание консистории и другие епархиальные нужды) на сумму 1095 рублей 60 копеек26; дополнительно направить на содержание епархиальных учреждений еще 118 рублей; потратить 8 рублей на выписку журналов и газет27; перечислить из тарелочных и кружечных сборов 17 рублей 88 копеек на содержание семинарии и 118 рублей на содержание женских епархиальных училищ28.
По указу Новгородской духовной консистории за № 2293 от 24 февраля 1890 г. заштатный Антониево-Дымский монастырь считался полу-общежительным. Это означало, что старшая братия и послушники содержались на жаловании, которое выдавалось за счет неокладных сумм монастыря. Кроме того, монастырь выдавал братии и послушникам чай и сахар, «по усмотрению настоятеля младшей братии выдавалась одежда и обувь»29, на что в 1918 г. было потрачено 706 рублей.
Если суммировать все указанные в ведомостях за 1918 г. затраты Ан-тониево-Дымского монастыря без учета затрат на организацию религиозной деятельности и ведение сельского хозяйства обители, то получим сумму в 12 805 рублей 55 копеек. Соответственно, если бы монастырь не имел прибыли от своей сельскохозяйственной деятельности в размере 6387 рублей 98 копеек, то с учетом полученной примерной суммы дохода в размере 7685 рублей 05 копеек от религиозной деятельности при выявленных затратах годовой долг монастыря составил бы 5120 рублей 50 копеек. Даже с учетом остатка наличных средств от 1917 г. в размере 1728 рублей 28 копеек общий минус бы от его хозяйственно-экономической деятельности составил 3392 рубля 22 копейки. А так с учетом всех доходов от всех видов деятельности к 1919 г. после всех выплат у монастыря оставалось наличными 3089 рублей 62 копейки и в кредитных билетах банковских учреждений он имел капиталов еще на 89 878 рублей30.
В «Общих сведениях о Тихвинском Антониево-Дымском монастыре за 1918 год», поданных в Новгородскую духовную консисторию, указывалось, что «все налоги, взносы и сборы, назначенные как правительством гражданским, так и епархиальным начальством, уплачивались и вносились своевременно. Долга на монастыре нет»31.
В заключение анализа хозяйственно-экономической деятельности обители хотелось бы обратить внимание на тот факт, что насельник монастыря получал на свое содержание в среднем около 100 рублей в год, тогда как постоянный рабочий, которого вдобавок кормили в монастырской трапезной и которому предоставляли жилье, как мы уже говорили выше, получал 270 рублей в год.
Стоит еще отметить, что на содержание трапезной для братии и богомольцев, которых монастырь кормил без оплаты, выделялось 6257 рублей 91 копейка, а общий примерный доход от всей религиозной деятельности монастыря составлял, как мы видели выше, примерно 7685 рублей 05 копеек. Фактически монастырь тратил почти все поступающие от записок, молебнов, продажи свечей средства и тому подобные пожертвования на то, чтобы бесплатно накормить посещавших обитель паломников и своих рабочих. А на жизнь себе братия зарабатывала тяжелым крестьянским трудом, к которому еще добавлялся ежедневный труд духовный, что полностью развеивает миф о бездельниках-монахах. Причем монастырь не отказался от своей многовековой традиции бесплатно кормить посещавших обитель паломников даже несмотря на четыре года Первой мировой войны, смену власти и начинающуюся Гражданскую войну и репрессии.
Согласно докладной записке настоятеля обители игумена Феоктиста в Новгородский епархиальный совет от 26 апреля 1919 г., зарегистрированной за № 1696, 1 января 1919 г. Комиссией по отделению Церкви от государства Тихвинского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов монастырь был упразднен32. В целом, как пишет Л. А. Секретарь: «Февральская и последовавшая за ней Октябрьская революции обернулись для монастырей настоящей катастрофой. В 1920 г. обители Новгорода и окрестностей были полностью закрыты… Процесс полной ликвидации монастырей… можно условно разделить на три периода. В 1917–1919 гг. была заложена юридическая основа и созданы организационные структуры (в том числе карательные) для претворения в жизнь задуманной большевиками программы33, в 1920 г. произведена тотальная ликвидация монастырей и передача храмов коллективам верующих, в 1920–1930 гг. были закрыты храмы»34.
Из рапорта благочинного монастырей архимандрита Антония, поступившего в Новгородский епархиальный совет еще 21 декабря 1918 г. и зарегистрированного за № 11495/571, мы узнаем, «что при всех монастырях Тихвинского уезда: Тихвинском Большом, Тихвинском Введенском, Тихвинском Николо-Беседном, Дымском и Реконской пустыни — Комиссией по отделению Церкви от государства при Тихвинском совдепе образованы комитеты рабочих из нижних послушников и рабочих при недопущении: архимандритов, игуменов, иеромонахов…», т. е. настоятелей и старшей братии35. Из другого документа мы узнаем, что все монастыри после организации в них рабочих комитетов были обращены советской властью в совхозяйства, подчиненные уездному земотделу36.
В следующем рапорте благочинного тихвинских монастырей архимандрита Антония от 22 декабря 1918 г. за № 11521/580 говорится о том, что монастырским комитетам «передано все монастырское имущество и ризницы и прежним начальствующим в обителях запрещено вмешиваться в дела особыми распоряжениями комиссии… Положение насельников св. обителей и прежних начальствующих неопределенное и очень неясное…»37. Надо отметить, что монастырское имущество не только передавалось образованным на их основе совхозяйствам, но и активно реквизировалось38.
-
38 Например, в той же Новгородской епархии «17 февраля 1918 г. в женский Духов монастырь явились два неизвестных человека, один в военной форме, другой в штатской одежде, с требованием показать хозяйственный двор. Они заявили, что скотный двор реквизируется…» (ГАНО. Ф. Р-822. Оп. 1. Д. 190. Л. 5 об.). Тогда же «в феврале 1918 г. у Саввино-Вишерского монастыря отобрали стадо коров, а в апреле волостной комитет самовольно захватил монастырскую землю» (ОПИ НГМ. КП № 11834. Л. 54 об. — 55) ( Секретарь Л. А. Монастыри Великого Новгорода и окрестностей. М.: Северный паломник, 2011. С. 103). Предписанием земельного губернского отдела в Отенском монастыре Крестецкого уезда было «реквизировано все монастырское хозяйство: коровы, лошади, земли, сельскохозяйственные здания и орудия обработки земли, взята вся мебель и обстановка, 4125 руб. денег — и, как сообщалось в представлении Новгородского епархиального совета, передано в управление рабочему Николаю Федорову(!)». Также шла речь о следующем: «Окрестное же население требует оставления хозяйства за монастырем или берет таковое на себя. В этих видах крестьянами в числе 300 чел. составлен внушительный приговор, причем предположено в случае неудачного исхода дела на месте послать делегатов в Москву» (РГИА Ф. 831. Оп. 1. Д. 23. Л. 11). В рапорте игумена Иверского Валдайского монастыря архимандрита Иосифа епископу Тихвинскому Алексию от 24 ноября 1918 г. сообщалось о том, что в монастыре была размещена колония беспризорников Петроградского воспитательного дома. Монахи приняли детей, разместили их в зданиях монастыря, стали кормить в монастырской трапезной, отмыли, но спустя три месяца их попросили покинуть обитель и уходить куда угодно, оставив, правда, при этом все имущество в монастыре (Новгородский епархиальный Совет. О реквизиции монастырского имущества // ГАНО. Ф. 481. Оп. 1. Д. 74. 3 сентября 1918 г. — 10 декабря 1918 г. Л. 5). В некоторых монастырях производились также и обыски, во время которых бывали случаи кощунственного отношения к святыням. При производстве обыска в теплом храме Старорусского Спасо-Преображенского монастыря 2 декабря 1918 г. «сопровождавшие комиссара (поляка Давидова) солдаты… ковыряли частицы св. мощей в раке, поднимали своими руками парчовую одежду на престоле св. князя Владимира и пытались поднять массивную серебряную одежду с главного престола, успев, однако, отвинтить только одно массивное стекло с футляра этой одежды. В холодном Преображенском храме солдатами ободрана часть деревянной обшивки иконостаса, а св. престол сдвинут с своего основания», — писал в докладной записке настоятель монастыря епископ Димитрий. «После такого поругания престол этот необходимо будет освятить вновь полным освящением, а в противном случае нельзя на нем совершать литургии» (РГИА Ф. 831. Оп. 1. Д. 23. Л. 8 об. — 9). Во время таких обысков представители властей нередко самовольно отбирали у насельников их собственные деньги и вещи (РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 23. Л. 7–7 об.). Незадолго до окончательного закрытия некоторых обителей епархии монастырские корпуса занимали солдаты воинских частей, которые расхищали съестные припасы и нередко оскорбляли религиозные чувства насельников и паломников. Например, настоятель того же Спасо-Преображенского монастыря г. Старая Русса таким образом описывал «возмутительный случай кощунства» в его обители: «В воскресенье 10 февраля один из солдат в присутствии нескольких богомольцев бросил большую стеклянную бутыль в икону Божией Матери, находящуюся над колодцем, и вдребезги разбил эту икону» (РГИА. Ф. 831. Оп. 1. Д. 23. Л. 8 об.).
О том, как закрывались монастыри на практике, мы можем судить из объяснительной записки в Новгородский епархиальный совет от 22 февраля 1919 г. другого настоятеля одной из обителей Тихвинского уезда — Троицкой Реконской пустыни — игумена Иннокентия. Настоятель пустыни писал, что рабочий комитет монастыря был образован против его воли. 12/25 декабря 1918 г. в обитель «явились два члена Тихвинской комиссии по отделению Церкви от государства Озеров и Веселов, которые предложили настоятелю и всей братии собраться в трапезной и там объявили, что отныне настоятель и старшая братия отстраняются от управления монастырем и вся полнота власти будет передана монастырскому рабочему комитету. После этого настоятеля и иеромонахов удалили из собрания, а из числа дьяконов, монахов, послушников и рабочих организовали комитет, которому члены комиссии передали все административное и хозяйственное управление монастырем. Иеродиаконы и монахи, привлеченные к выборам комитета, боялись противиться власти, а также, опасаясь полного разорения монастыря, решили временно организовать требуемый властью рабочий комитет…»39.
Из других документов Новгородского епархиального совета того времени мы узнаем, что после собрания уполномоченные вручили игумену Реконской пустыни бумагу за № 10 и подписью председателя Комиссии по отделению Церкви от государства Озерова и секретаря комиссии Веселова40, где было сказано: «Предписывается незамедлительно… комитету сдать все без исключения имущество монастыря, в чем бы оно ни заключалось, а также все деньги, документы и т. д. И отныне всеми делами и имуществом монастыря ведает избранный комитет, будучи за все ответственным перед советской властью и являясь единственной административной властью монастыря. За неисполнение распоряжений и требований монастырского комитета обитатели монастыря будут привлекаться к ответственности по всей строгости революционного закона»41.
При сдаче наличных денег члены комиссии заподозрили, что игумен часть из них утаил. Никакие объяснения, что в монастыре больше денег нет, не помогли. Его арестовали и увезли в г. Тихвин, где, продержав двое суток в тюрьме, выпустили, но еще двенадцать дней после этого вызывали на допросы. Только 30 декабря 1918 г. он смог вернуться к месту своего служения в Реконскую пустынь42.
Но еще до возвращения игумена, в его отсутствие, Реконский монастырский рабочий совет в первом из своих документов после решения о создании самого совета за № 2 от 26 декабря 1918 г. и подписями председателя совета Григория Воронцова и секретаря Феофана Богданова сообщал отцу благочинному тихвинских монастырей архимандриту Антонию, что «25 декабря… Реконская пустынь поступила в ведение советского рабочего правительства и поэтому отказывается выплачивать епархиальные взносы»43.
Возвращение из Тихвина игумена положения вещей не изменило. 31 декабря 1918 г. он уже докладывал епархиальному совету: «Довожу до сведения епархиального совета, что я в настоящее время бессилен исполнить распоряжения епархиального начальства относительно денежных взносов как на епархиальные нужды, так и в общецерковную казну»44.
Скажем прямо: ситуация, которая сложилась в Реконской пустыни, была достаточно типичной при закрытии монастырей. Советская власть не особенно церемонилась с монашествующими. Представители комиссий уездных советов и подотделов отделов юстиции губернских исполкомов постоянно нарушали положения Декрета по отделению Церкви от государства, 13 пунктов которого редактировал лично Ленин. Согласно этому декрету здания храмов и богослужебное имущество должны были безвозмездно передаваться в пользование группам верующих, заявившим на них свои права, а никак не рабочим комитетам совхозяйств, что делалось фактически повсеместно и являлось грубейшим нарушением прав верующих и советского законодательства.
В Государственном архиве Новгородской области содержится небольшой по своему объему, но огромный по своему цинизму документ, характеризующий политику государства тех лет по отношению к Церкви. Из протокола заседания Новгородского губисполкома за № 1701 от 17 апреля 1919 г. мы узнаем о докладе товарища Зорина. Суть доклада сводилась к следующему: подотдел отдела юстиции по отделению Церкви от государства Новгородского губисполкома существует уже три месяца. Теперь этот срок прошел. Все церкви и монастыри ликвидировать за это время не удалось. А потому тов. Зорин просит продлить существование подотдела и отпустить на его нужды из средств Новгородского епархиального совета 38 591 рубль 74 копейки! Далее из постановления ясно, что подотделу поручалось «увеличить свой штат, дабы скорее закончить работу»45. Таким образом, из этого документа мы узнаем, что церкви и монастыри ликвидировались за счет средств самой церкви, пожертвований прихожан.
Надо отметить, что как Новгородский епархиальный совет, так и высшая церковная власть достаточно быстро реагировали на нарушения закона. В фонде Канцелярии патриарха Тихона и Священного Синода, который хранится в РГИА, в постановлении от 3–16 мая 1919 г. читаем: «Святейший Патриарх, Священный Синод и Высший Церковный Совет Православной Российской Церкви в соединенном присутствии слушали поступившие от Преосвященнейшего Митрополита Новгородского, во исполнение циркулярного распоряжения Высшего Церковного Совета от 18–31 декабря 1918 г. за № 32, представление Новгородского Епархиального Совета за №№ 2025…, 1984, 2016, 1980, 1981, 1861, 1810, 2159, 1979, 1939, 1982, 2017 с следующими к этим представлениям приложениями о разных событиях, происшедших в жизни некоторых монастырей и церквей Новгородской епархии в конце минувшего и в текущем годах…
К представлению за № 2016 приложена копия с донесения настоятеля и старшей братии Реконской пустыни от 22 февраля…
В представлении за № 1981, на основании рапорта благочинного монастырей архимандрита Антония, сообщается об отобрании советской властью от настоятелей и настоятельниц монастырей Тихвинского уезда и некоторых монастырей Череповецкого уезда всей административной власти и хозяйственной части и передачи их комитетам рабочих со всем монастырским инвентарем, с документами и капиталами. По сему поводу Епархиальный Совет постановил от имени Преосвя-щеннейшего Митрополита Арсения просить ВЦС заявить советской власти о неправильном применении инструкций комиссара юстиции, по которой храмы и все имущество, назначенное для богослужебных целей, должны быть переданы при желании принять группе лиц с тем, чтобы распоряжение уездных отделов передавать храмы рабочим комитетам было отменено»46.
Как ранее епархиальным, так и Высшим Церковным Советами были заявлены протесты, и советская власть вынуждена была реагировать. На места, по всей видимости, были направлены соответствующие распоряжения. Как бы спохватившись, власти стали исправлять создавшееся положение с незаконной передачей монастырских храмов рабочим комитетам. Уже 15/28 февраля 1919 г. в Реконскую пустынь приехал уполномоченный И. Федоров и «потребовал (!), чтобы при Реконской пустыни непременно был организован свой приход и членам этого прихода должны быть сданы на хранение как монастырские храмы, так и их церковно-ризничное имущество… А потому крестьяне близлежащих деревень… решили организовать свой приход, в число которого вступило: взрослых мужчин 179, а женщин 222, а обоего пола 401 человек. В силу этого они вместе с насельниками пустыни подписали через уполномоченных свое согласие… После этого… Федоров объявил, что Реконская пустынь считается упраздненной, а приход должен приискать себе священника»47.
Удивительно, но при закрытии Антониево-Дымского монастыря того же Тихвинского уезда ничего подобного тому, что происходило в Реконской пустыни и в других тихвинских монастырях, не произошло. Никто старшую братию никуда не выгонял. Никого не арестовывали.
Более того, когда после закрытия монастыря был избран рабочий комитет и организована сельскохозяйственная коммуна, то председателем рабочего комитета был избран тот же игумен Феоктист, а казначеем — иеродиакон Киприан!
«С 1 апреля текущего года, — читаем мы в докладной записке игумена Феоктиста Новгородскому епархиальному совету за № 1696, — от комитета рабочих принял настоятель монастыря в свое ведение денежную сумму и прочее в присутствии члена Тихвинского исполкома заведующего сельским хозяйством Иванова наличных денег шестьсот девяносто девять рублей 45 копеек (699 руб. 45 коп.). Билетами и квитанцией на билеты — восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят восемь рублей (89 478 руб.). Вся билетная сумма по требованию… сдана в ведение гражданской власти (таким образом монастырь разом лишился всех своих накоплений, содержавшихся в банках. — Прим. авт. )48. Хозяйство монастыря объявлено советским хозяйством. Братия монастыря, которая в силу своего возраста и состояния здоровья не могла работать, была зачислена в приют престарелых, организованный там же при совхозе Ан-тониево-Дымского монастыря. Те, кто в состоянии был трудиться, были зачислены в рабочие совхоза.
Тем не менее, несмотря на упразднение монастыря, служба церковная в обители продолжает совершаться ежедневно — вечерня, утреня и обедня в полиелейные и праздничные дни. В другое время — обедница.
Денежное пособие настоятель и братия получали из общих доходов монастыря. Всего дохода за 1919 год — 13 186 рублей 92 копейки и принятые от комитета 699 рублей 45 копеек. Всего с принятыми 13 886 рублей 37 копеек.
Расхода за 1919 год настоятелю и братии наличными выдано 4445 рублей и на содержание продуктами 3100 рублей. Всего расхода монастырского и братского 10 424 рубля 20 копеек. Остаток на 1920 год наличными 3362 рубля 17 копеек. Билетами — нет.
В 1919 году отделено в епархиальный совет на общецерковные нужды 5 % (отчисления 692 рубля 50 копеек) и 3 % (отчисления 525 рублей) на епархиальные нужды.
Хлебом и продуктами до нового урожая обеспечены»49.
Надо отдать должное игумену монастыря, который необъяснимым с точки зрения сложившейся общей ситуации образом сумел договориться с властями и оставить за собой монастырь. Этому скорее всего способствовала сплоченность братии, которая при безбожной власти, начинающихся изъятиях имущества, гонениях и расстрелах проголосовала за своего настоятеля, который даже в этих условиях умудрился выплачивать из бюджета советского хозяйства епархиальные взносы! Вещь для того времени немыслимая.
Не были потревожены как при ликвидации монастыря, так и при закрытии впоследствии его соборного храма мощи преподобного Антония Дымского, хотя 29 июля (12 августа) 1920 г. постановлением СНК РСФСР решено было провести полную ликвидацию мощей во всероссийском масштабе50.
Но через десять лет обитель все-таки де-факто окончательно прекратила свое существование. Существование монастыря в виде совхозяйства также раздражало власти, и оно было упразднено 25 августа 1929 г., когда в Дымском монастыре был организован колхоз «Красный броневик»51.
Тогда же в 1929 г. был окончательно закрыт деревянный храм Рождества Иоанна Предтечи Антониево-Дымского монастыря52.
Троицкий собор монастыря действовал в качестве приходского вплоть до конца 1936 г. (сюда приезжали богомольцы из г. Тихвина, после того как там были закрыты или перешли в ведение обновленцев практически все церкви), когда по представлению Президиума Ленинградского Облисполкома от 29 декабря 1936 г.53 Президиум ВЦИК РСФСР на заседании 25 декабря 1937 г. принял решение о закрытии Антониево-Дымской церкви в Галичском с/с Тихвинского района, о чем свидетельствует выписка из протокола этого заседания № 92 за подписью М. И. Калинина54. Храм был передан в ведение Тихвинского музея.
Для закрытия храма (несмотря на жалобу членов двадцатки в Ленинградский облисполком, протест от 18 апреля 1937 г. и просьбу во ВЦИК РСФСР ее прихожан55, что было чревато арестом со всеми вытекающими из этого последствиями) использовалось стандартное основание, что требования местного музея в отношении ремонта памятника56, который находится под государственной охраной, двадцаткой и в целом общиной систематически не выполняются57, и с закрытием церкви верующие (община имеет в своем составе около 100–125 человек) могут пользоваться для отправления своих религиозных нужд другим храмом, который находится в восьми километрах от Дымского монастыря.
Подытоживая рассмотрение положения новгородских монастырей сразу же после прихода советской власти, можно сказать следующее: на протяжении первых ее лет мы видим стремительное усиление давления на обители и репрессий по отношению к их насельникам. Если в конце 1918 г. на монастыри еще совершались отдельные «набеги» подчас неизвестных без документов лиц, которые изымали из келий монахов их личные вещи и деньги (могли взять, например, со стола в келье чай и сахар), могли расхищаться из монастырских подвалов съестные припасы58, то уже к началу 1919 г. уполномоченными с мандатами большая часть монастырей была закрыта и обращена в совхозяйства (процесс закрытия новгородских монастырей был практически завершен к 1920 г.), а имущество их было либо реквизировано, либо передано вновь образованным коммунам59. Монастыри стремились приспособиться к новым тяжелейшим условиям своего выживания, но участь их была предрешена. После ликвидации монастырей храмы обителей по требованию властей, с составлением соответствующих типовых соглашений60, передавались коллективам верующих. С течением времени данные храмы и общины верующих также были ликвидированы.
Принятые сокращения
ВЦИК — Всероссийский Центральный исполнительный комитет ВЦС — Высший Церковный совет
ГКУ ЛОГАВ — Государственное казенное учреждение «Ленинградский областной государственный архив» (г. Выборг Ленинградской области)
ГАНО — Государственный архив Новгородской области (Великий Новгород)
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации (Москва)
СНК (Совнарком) — Совет народных комиссаров
ОПИ НГМ — Отдел письменных источников Новгородского государственного музея
РГИА — Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
РИК — Районный исполнительный комитет