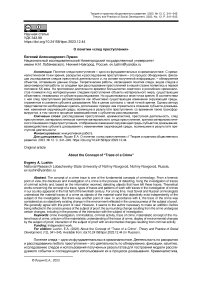О понятии «след преступления»
Автор: Лушин Е.А.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 12, 2023 года.
Бесплатный доступ
Понятие следа преступления - одно из фундаментальных в криминалистике. С криминалистической точки зрения, раскрытие и расследование преступления - это процесс обнаружения, фиксации исследования следов преступной деятельности и, на основе полученной информации, - обнаружение объектов, оставивших данные следы. Теоретические работы, касающиеся понятия следа, видов следов и закономерностей работы со следами при расследовании преступлений в нашей стране появились в первой половине ХХ века. На протяжении длительного времени большинство советских и российских криминалистов понимали под материальными следами преступления объекты материального мира, существующие объективно, независимо от субъекта расследования. Но существовала и иная точка зрения. В соответствии с ней след преступления рассматривался как объективно существующее изменение окружающей среды, отраженное в сознании субъекта доказывания. Мы в целом согласны с такой точкой зрения. Однако автору представляется необходимым сделать дополнение: прежде чем отразиться в сознании субъекта доказывания, изменения окружающей среды, возникшие в результате преступления, со временем также трансформируются, в том числе в процессе взаимодействия с субъектом расследования.
Расследование преступлений, криминалистика, преступная деятельность, след преступления, материалистическое понятие материального следа преступления, критика материалистического понимания следа преступления, отображение изменений окружающей среды субъектом доказывания, взаимодействие субъекта доказывания с изменениями окружающей среды, возникшими в результате преступной деятельности финансирование: инициативная работа
Короткий адрес: https://sciup.org/149144187
IDR: 149144187 | УДК: 343.98 | DOI: 10.24158/tipor.2023.12.44
Текст научной статьи О понятии «след преступления»
основной задачей которой является содействие расследованию преступлений, и как наука, и как практическое руководство направлена на работу со следами1.
Следы использовались для раскрытия преступлений с глубокой древности, однако теоретические работы, касающиеся понятия «след преступления», классификации следов, закономерностей их образования и использования в раскрытии и расследовании преступлений в отечественной литературе появились только в первой половине прошлого века. К ним относятся работы И.Н. Якимова, С.М. Потапова, Б.И. Шевченко и других криминалистов (см., например, Якимов, 1935: 44; Потапов, 1940).
Теоретические работы по формированию понятия следа опирались на господствующую в то время в нашей стране теорию отражения, в соответствии с которой при взаимодействии друг с другом материальные объекты запечатлевают друг на друге результаты этого взаимодействия. Долгое время большинство советских, а позже российских, криминалистов подразумевали под следом объективно существующую данность, возникшую в результате взаимодействия объектов материального мира. А следователю отводили роль пассивного регистратора той информации о свойствах (признаках) следообразующего объекта и условиях взаимодействия следообразующего и следовоспринимающего объектов, которая отобразилась в следах. Например, Н.П. Май-лис под следом понимала «любое материальное отображение свойств вещей и процесса следо-образования (явлений), позволяющее судить об этих свойствах и использовать их отражение для идентификации и диагностики»2. Р.С. Белкин в одной из своих работ говорил: «С гносеологической точки зрения следами преступления являются любые изменения среды, возникшие в результате совершения в этой среде преступления» (Белкин, 1997: 57).
Такое понимание следа вытекает из материалистической точки зрения, которая господствовала в советской криминалистике с 60-х годов прошлого столетия и продолжает занимать лидирующее положение сегодня. С точки зрения материализма, существование материи объективно, т. е. она (материя) существует независимо от нашего восприятия. С другой стороны, любой материальный объект в процессе своего существования неизбежно взаимодействует с окружающими объектами и окружающей средой. Он никаким другим образом не может проявить свое наличие в материальном мире, кроме как взаимодействуя с другими объектами. В результате такого взаимодействия объекты изменяют состояния друг друга. Такие изменения, возникшие в результате преступной деятельности, многие криминалисты и называют следами преступления. Соответственно, по их мнению, в процессе расследования субъекты уголовно-процессуальной деятельности оперируют с этими, независимо существующими от их сознания, объектами.
Подобной точки зрения придерживаются многие российские ученые и в настоящее время. Например, аналогичное понятие следа приводит в одной из своих работ Я.В. Комиссарова. По ее мнению: «следы – это любые изменения, связанные с событием преступления, отражающие его сущность и специфику» (Комиссарова, 2019: 132). В работе А.Н. Першина и К.С. Сидоровой встречается упоминание о материальных следах, под которыми авторы понимают изменения в неживой природе, которые происходят в ходе совершения преступления (Першин, Сидорова, 2019).
Однако некоторые ученые справедливо критикуют такую точку зрения, говоря, что при таком понимании следа не учитывается влияние субъективного фактора на работу с доказательствами, отсутствует субъект этой работы – следователь, специалист. А ведь именно они решают вопрос, что относится к следам преступления, а что – нет, что необходимо фиксировать, изымать и использовать в расследовании, а что к рассматриваемому событию не относится. Именно они воспринимают данные о событии, которые заложены в обстановке места происшествия и, осмысливая эти данные, преобразуют их в информацию о преступлении. Например, М.К. Каминский в одной из своих работ утверждал: «След в криминалистическом смысле – это результат мыследеятельство-вания, это наше понимание того, о чем говорит отраженное состояние объекта»3. И позднее в одной из своих статей он говорит, что есть «след-объект, существующий сам по себе, и этот след-объект отражается сознанием субъекта познания…» (Каминский, 2016: 127). Аналогичной точки зрения придерживался и И.В. Пашута, говоря, что «изменения в среде (следы преступного события) становятся доказательствами только тогда, когда восприняты субъектом доказывания с соблюдением надлежащей процедуры, отображены в его сознании, преобразованы (перекодированы) им, и в таком преобразованном виде закреплены в материалах дела» (Пашута, 2014: 161).
Считаем необходимым из солидарности с подобной точкой зрения заметить, что слово «информация» зачастую употребляется не совсем корректно. В современном языке часто можно встретить выражения «компьютерная информация», «научная информация», «финансовая информация» и т. п. Авторы под данными словосочетаниями понимают то, что содержится в памяти компьютера, в научной статье или финансовых документах. Но Информа́ ция – от лат. Informātiō – «разъяснение, представление, понятие о ч.-л.», от лат. informare – «придавать вид, форму, обучать; мыслить, воображать»1. А в памяти компьютера, в научной статье и т. д. содержатся данные, которые воспринимаются, осознаются, корректируются субъектом и таким образом становятся той информацией, которую субъект воспринял.
В связи с этим рассмотрим подробнее процесс образования следов преступления и процесс работы с ними с целью получения информации о преступлении.
Преступник, совершая преступные действия неизбежно взаимодействует с окружающей средой. Это взаимодействие объективно порождает в среде самые различные материальные изменения. Указанные изменения возникают под действием законов естественных наук – физики, химии и др. В них отражаются различные свойства субъекта преступной деятельности, его действий и другие аспекты преступления.
Эти изменения, их вид, наличие, местоположение, форма, постоянство (неизменность во времени) зависят от большого количества факторов.
К ним относятся:
-
– вид действий субъектов преступной деятельности: стояли, шли, брали и т. п.;
-
– характеристики объектов, используемых преступником и воздействующих на окружающую среду: их масса, размеры, твердость, хрупкость, форма, химический состав материала и др.;
-
– характеристики объектов, на которые оказывалось воздействие: их масса, размеры, твердость, хрупкость, форма и др.;
-
– параметры самого процесса воздействия: расстояние между взаимодействующими объектами, их кинетическая энергия, угол взаимодействия, время взаимодействия, состав и состояние среды, в которой происходит взаимодействие, и др.
Подчеркиваем, что речь идет именно о факторах, влияющих на изменения, которые объективно возникают в среде, а не об информации о преступлении или взаимодействующих объектах, которая впоследствии будет сформирована, осознана, зафиксирована в памяти субъекта, проводящего следственное действие (например, осмотр места происшествия) и будет фигурировать в материалах уголовного дела в качестве доказательства.
Следует разделять то, что является объективной реальностью, существующей независимо от нас, и то, что простимулировано объективной реальностью, но формируется в процессе нашей мыслительной деятельности и, соответственно, зависит от наших свойств. Мы согласны с мнением Л.А. Воскобитовой, которая утверждала, что субъект познания «не бесстрастно и механически отражает (фотографирует, копирует в своем сознании) объект, как это понимала советская теория доказательств. Он активно формирует этот объект, включая в него и знания о фактах (объективное начало), и свое понимание их юридической сущности (субъективное начало)» (Воскобитова, 2012: 60). Несмотря на то, что большинство криминалистов понимают под следом объективную, существующую независимо от субъекта реальность, они же признают, что на результаты поисковых следственных действий оказывает влияние и субъективный фактор. Это, например, проявляется в рассуждениях о тактике проведения следственного осмотра. В частности, авторы одного из учебников по криминалистике, рассматривая «Общие положения тактики следственного осмотра», пишут: «При осмотре неизбежны элементы субъективно подхода… Следовательно, речь идет не о том, чтобы устранить субъективность восприятия объектов осмотра следователем, ибо это невозможно, а устранить то субъективное, что не является отражением действительности…»2.
Указанные выше изменения, как уже было сказано, возникают и существуют объективно, независимо от субъекта расследования, например, следователя, проводящего осмотр места происшествия, но они не станут следами преступления, пока следователь (специалист) не вступит во взаимодействие с этими изменениями: увидит их, оценит содержащиеся в них данные с точки зрения отношения к расследуемому событию. Результатом этой оценки и будет информация, полученная следователем. На оценку наблюдаемых субъектом изменений оказывают влияние и объективные, и субъективные факторы. К объективным факторам можно отнести наличие технических средств, позволяющих обнаружить, зафиксировать и исследовать данные изменения, наличие достаточного времени на работу с ними и др. Субъективными факторами являются опыт следователя или специалиста по работе с подобными изменениями, его представления о том событии, которое здесь произошло и др.
Здесь необходимо сделать еще одно замечание – процесс взаимодействия двух объектов всегда приводит к изменению их состояний. С этой точки зрения действия следователя (специалиста) по обнаружению, изъятию и фиксации следов, т. е. его взаимодействие с ними, предполагает не только влияние данных, содержащихся в последствиях преступления, на сознание следователя, но и влияние следователя на состояние и содержание этих данных. Например, чтобы выявить невидимый отпечаток пальца руки, его необходимо сделать видимым - обработать дактилоскопическим порошком. Это приводит к взаимодействию потожирового вещества и поверхности, на которой оно расположено, с крупинками дактилоскопического порошка. Речь идет именно о взаимодействии порошка, поверхности и вещества в отпечатке. В результате меняются состояния крупинок порошка, потожирового вещества и поверхности, на которой оно расположено. Эти изменения в большинстве случаев приводят к утрате некоторых общих и частных признаков папиллярного узора. Если этих идентификационных признаков в следе много, а в результате обработки его дактилоскопическим порошком было утрачено их небольшое количество, то след останется пригодным для идентификации. Если же по каким-то причинам в процессе выявления следа было утрачено много признаков (например, вследствие ошибки с подбором порошка) или в следе первоначально было мало идентификационных признаков, то след может стать непригодным для идентификационного исследования и все данные, содержащиеся в нем первоначально, будут утрачены.
Некоторые из изменений, возникающих при выявлении следов дактилоскопическими порошками, известны, они закономерны и, соответственно, запрограммированы (крупинки порошка смешиваются с потожировым веществом); другие могут быть случайными, нежелательными, но также известными - часть крупинок не удаляется после обработки с поверхности, а остается на ней; на некоторых участках папиллярного узора порошок не прилипает к потожировому веществу, поэтому они не окрашиваются и др. Но, несомненно, есть изменения, которые на сегодняшний день остаются неизвестными и будут изучаться впоследствии в результате дальнейшего развития науки.
Указанные изменения, возникающие ввиду взаимодействия следователя (специалиста) со следами, частично обусловлены объективными, не зависящими от субъекта расследования факторами. К ним можно отнести развитие наук, технических средств и разработанности криминалистических методик работы со следами преступления. Эти изменения зависят и от субъекта, взаимодействующего с данными следами. Например, от его технической оснащенности: от наличия у него необходимого для данной ситуации оборудования, в данном случае - дактилоскопического порошка, нужной дактилоскопической кисточки и т. п. Также от его теоретических знаний и практических умений, касающихся работы с дактилоскопическими следами, от его отношения к делу и др.
Таким образом, данные, первоначально содержащиеся в изменениях окружающей среды, возникших в результате преступной деятельности, в результате взаимодействия с ними субъекта расследования претерпевают изменения. По этой причине в описанной ситуации у субъекта расследования формируется информация не о первоначальном, объективно появившемся оттиске папиллярного узора, а о преобразованном им же самим (или другим субъектом, например, специалистом) оттиске. Аналогичная ситуация возникает и на других этапах работы со следами: при фиксации, изъятии, исследовании. Подобные рассуждения можно привести и для других видов следов.
Кроме того, существенным является и то, какие свойства изъятых объектов впоследствии будут исследоваться и использоваться в доказывании. Например, если при исследовании следов крови будет исследоваться только ее групповая принадлежность, то случайное внесение в след в результате неквалифицированных действий специалиста стороннего генетического материала не приведёт к искажению результатов. Но если, подразумевается исследование крови на ее генетический состав, ошибка специалиста может существенно повлиять на результаты.
Поэтому, в целом соглашаясь с ранее приведенными понятиями следа преступления, предложенными М.К. Каминским и И.В. Пашутой, считаем необходимым учесть в определении «следа преступления», что следователь (специалист) в процессе работы со следами преступления воспринимает и оценивает не само изменение, возникшее в результате совершения преступления, а изменение, преобразованное действиями самого субъекта. И именно это преобразованное изменение отображается в его сознании и оценивается им как «след преступления». Таким образом, под материальным следом преступления следует понимать изменение окружающей среды, возникшее в результате преступной деятельности, преобразованное действиями субъекта, производящего следственное действие и отображенное в его сознании в виде информации о преступном событии.
Современные методики работы со следами в большинстве случаев либо пренебрегают этими преобразованиями, вполне обосновано считая их не существенными, либо стараются их минимизировать и учесть при исследовании следов. Однако развитие науки и техники расширяет перечень объектов, которые становятся доступными для использования в доказывании. Например, с развитием увеличительных приборов в расследовании стали использовать микрообъекты и микроследы или у «традиционных» объектов исследуются новые, ранее не используемые свойства, такие как спектральный анализ структуры стеклянных объектов, генетический состав крови. Это ведет к тому, что существенными для расследования становятся более «хрупкие», легко изменяемые, трудно воспринимаемые не только человеческими органами чувств, но и сознанием, свойства объектов (например, генетические признаки). И человек при взаимодействии с такими свойствами объектов неизбежно будет их изменять. Это необходимо учитывать при разработке методик работы со следами в целях учета, оценки и минимизации указанных изменений.
Список литературы О понятии «след преступления»
- Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 2. Частные криминалистические теории. М., 1997. 464 с.
- Воскобитова Л.А. Некоторые особенности познания в уголовном судопроизводстве, противоречащие мифу об истине. // Библиотека криминалиста. 2012. № 4 (5). С. 56-64. EDN: QYUFQX
- Каминский М.К. Вульгарный материализм и его пагубность для криминалистики и криминалистического образования // Вестник Удмуртского университета. Экономика и право. 2016. Т. 26, № 4. С. 125-128. EDN: WLBDMF
- Комиссарова Я.В. Понятие и классификация следов в криминалистике // Вестник университета имени О.Е. Кутафина. 2019. № 3. С. 131-141. DOI: 10.17803/2311-5998.2019.55.3.131-141 EDN: LFCRRS
- Пашута И.В. Отражение в окружающей среде преступлений, связанных со взрывами. // Вестник Полоцкого гос. ун-та. Серия D. Экономические и юридические науки. 2014. № 6. С. 161-165. EDN: TVSMYP
- Першин А.Н., Сидорова К.С. Криминалистические основы установления пользователя информационно-телекоммуникационной сети Интернет // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2019. № 3. C. 82-94. DOI: 10.17803/2311-5998.2019.55.3.082-094 EDN: DQZETS
- Потапов С.М. Принципы криминалистической идентификации // Советское государство и право. М., 1940. № 1. С. 66-81.
- Якимов И.Н. Осмотр. М., 1935. 119 с.