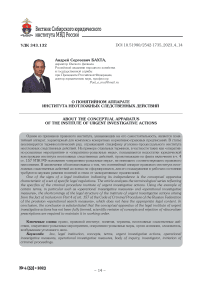О понятийном аппарате института неотложных следственных действий
Автор: Бахта А.С.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 4 (53), 2023 года.
Бесплатный доступ
Одним из признаков правового института, указывающих на его самостоятельность, является понятийный аппарат, характерный для комплекса конкретных нормативно-правовых предписаний. В статье анализируется терминологический ряд, отражающий специфику уголовно-процессуального института неотложных следственных действий. На примере отдельных терминов, в частности таких как «оперативно-розыскные мероприятия» и «оперативно-розыскные меры», показываются недостатки юридической конструкции института неотложных следственных действий, проистекающие из факта включения в ч. 4 ст. 157 УПК РФ положения «оперативно-розыскные меры», не имеющего соответствующего правового наполнения. В заключение обоснован вывод о том, что понятийный аппарат правового института неотложных следственных действий до конца не сформировался, для его поддержания в рабочем состоянии требуются научная ревизия понятий и отказ от «декоративных» предписаний.
Право, правовой институт, понятия, термины, неотложные следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, оперативно-розыскные меры, орган дознания, следователь, возбуждение уголовного дела
Короткий адрес: https://sciup.org/140303418
IDR: 140303418 | УДК: 343.132 | DOI: 10.51980/2542-1735_2023_4_14
Текст научной статьи О понятийном аппарате института неотложных следственных действий
В отечественной юридической науке на протяжении более века не ослабевает интерес к такому уникальному нормативному образованию, как «правовой институт» или «институт права». Можно однозначно констатировать, что на базе соответствующих теоретических разработок общей теории права и отраслевых юридических наук (надлежит признать лидерство в этой части теории гражданского права и процесса, где проблемы сущности и признаков правовых институтов, их видов получили фундаментальное освоение еще в 70-х годах прошлого столетия [см., напр.: 6, с. 177; 9, с. 10-15; 16, с. 29-30; 18, с. 59-60; 26, с. 65-75 и др.]) сформировалась доктрина правовых институтов, имеющая не только сугубо теоретическое, дидактическое, но и практическое значение, если иметь в виду законотворческие аспекты.
Для целей настоящей статьи мы будем ориентироваться на трактовку правового института как основанной на законе совокупности (группы) обособленных в главе, разделе кодифицированного закона норм, представляющих целостную систему и способных регулировать в рамках предмета данной отрасли права относительно самостоятельное общественное отношение [5, с. 101-104; 29, с. 61-67].
В конкретных отраслевых юридических науках теоретические представления о правовых институтах характеризуются разной степенью развития. Своеобразная «научная ревизия» в указанной части проводится в отраслевых науках при кодификации той или иной отрасли законодательства. Фактически всегда принятие нового кодекса, реагирующего на возникшие участки общественных отношений, знаменует и рождение новых правовых институтов. Кодификация предпо- лагает упорядочение и систематизацию законодательных норм, восполнение имеющихся пробелов, устранение обнаружившихся правовых коллизий, что в итоге и призвано обеспечить стабилизацию и устойчивость законодательства. Кроме того, объективными причинами необходимости проведения кодификации являются возрастание объема нормативного материала в виде соответствующих законодательных норм, который требует определенной организации, в том числе с учетом характера и природы регулируемых основным законом отношений. Есть примеры, когда уже сложившиеся правовые институты длительное время «живут своей жизнью» за пределами кодифицированного законодательного акта. При очередной правовой реформе сложившиеся нормативные образования, усиленные дополнительными предписаниями, включаются в кодекс в статусе самостоятельных правовых институтов1.
Так, принятие в 2001 г. УПК РФ ассоциируется с оформлением и выделением институтов уголовного преследования, уголовно-процессуальной преюдиции, состязательности, судебного обжалования, судебного контроля, особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением и др.
По мере развития определенной группы общественных отношений, требующих законодательного регулирования, правовые институты вводятся в действующие кодексы специальными законами. Таково происхождение в УПК РФ, например, институтов дознания в сокращенной форме (гл. 32.1)2, особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1)3.
Беря за основу трактовку правового института представителями общей теории права, институтом уголовно-процессуального права можно рассматривать законодательно обособленную совокупность связанных между собой уголовно-процессуальных норм, обеспечивающих законченное регулирование отношений, возникающих при производстве по уголовным делам [14, с. 17-18; 17, с. 38-46]. В качестве признаков института уголовно-процессуального права обычно называются: а) он представляет структурную часть отрасли права; б) содержание института определяет комплекс однородных нормативно-правовых предписаний; в) каждому институту соответствует свой предмет регулирования в виде группы общественных отношений; г) как правило, формальная обособленность в разделах, главах; д) своеобразие института права выражается в характерных для него понятиях, терминах, юридических конструкциях.
Исследователи феномена «институт уголовно-процессуального права» по обыкновению фокусируются на первых четырех его признаках и не уделяют должного внимания понятийному аппарату данного нормативного образования. Вместе с тем, как отмечают А.М. Баранов и К.Н. Смирнова, определения понятий, обладая высокой информативностью, призваны придавать правовым явлениям требуемую ясность и доступность, способствовать их единообразному восприятию и точному применению правовых норм [3, с. 3].
В контексте изложенного для нас представляет интерес рассмотрение понятийного аппарата уголовно-процессуального института неотложных следственных действий, получившего в УПК РФ дополнительное законодательное регулирование (п. 19 ст. 5, ст. 157), что придало ему «второе дыхание».
По мнению Р.А. Шахнавазова, с точки зрения уголовно-процессуального права нормы, регулирующие возбуждение уголовного дела и производство неотложных следственных действий, представляет собой уголовно-процессуальный институт. Вместе с тем, отмечает автор, «процесс формирования института производства неотложных следственных действий не оказался завершенным и бесспорно состоявшимся» [25, с. 10]. Учитывая, что приведенная оценка нормам, относящимся к названному институту, прозвучала почти двадцать лет назад, можно предположить, что в текущий момент процесс его формирования должен был завершиться. В научно-теоретическом аспекте содержание института производства неотложных следственных действий подверглось масштабному исследованию, ему посвящены десятки публикаций, а их авторами разработаны проектные, модельные нормы, реализация которых в законодательстве может вывести правовое регулирование анализируемого института на более высокий качественный уровень. Современные публикации ряда авторов по указанной проблематике однозначно выделяются по своей широте и детальности характеристики неотложных следственных действий [28, с. 225-229; 8, с. 108-115; 22, с. 146-160 и др.]. Однако, несмотря на то, что выражение «институт неотложных следственных действий» многими учеными используется без каких-либо оговорок, часто фигурирует в названиях научных сочинений, в уголовно-процессуальной теории остаются дискуссионными отнюдь не второстепенные вопросы, связанные с практическим проведением неотложных следственных действий. Высказываются и пожелания оптимизировать нормативную основу рассматриваемого института, уточнить ряд образующих ее предписаний.
Автор настоящей статьи убежден в том, что окончательное становление нормативного правового комплекса, предмет регулирования которого составляют общественные отношения, возникающие при проведении неотложных следственных действий, произойдет только при условии выработки четких дефиниций терминов, согласования понятий, которые в конечном итоге и определяют конструкцию соответствующего правового института. Поэтому вряд ли есть предпосылки для того, чтобы считать бесспорно состоявшимся институт неотложных следственных действий, если ключевая категория этого института – неотложные следственные действия
– получившая закрепление в п. 19 ст. 5 УПК РФ, имеет в юридической литературе десятки различных интерпретаций. Причем определение неотложных следственных действий дается в отсутствие в УПК РФ общего понятия следственных действий.
Продолжается начавшаяся еще в период действия УПК РСФСР дискуссия по вопросам понятия системы неотложных следственных действий [19, с. 98-102], круга субъектов производства неотложных следственных действий, их соотношения с первоначальными следственными действиями [20, с. 145-153], продолжительности сроков производства неотложных следственных действий [13, с. 116118], их проведения до возбуждения уголовного дела [10, с. 94].
Терминологические «вольности» при описании в законе правовых институтов, несоответствие терминов своему этимологическому значению, рассогласованность их с другими терминами, используемыми для нормативного выражения содержания института, некорректное заимствование терминов из других отраслей законодательства (например, оперативно-розыскного) существенно снижают потенциал норм права, объединившихся в институт.
Понятийный ряд института неотложных следственных действий включает нормы, дающие общую характеристику неотложным следственным действиям (п. 19 ст. 5 УПК РФ), а также регулирующие отношения по поводу возбуждения уголовного дела для незамедлительного закрепления, изъятия и исследования доказательств с последующей передачей дела по подследственности, полномочий органа дознания по возбужденному им уголовному делу после направления его руководителю следственного органа (ч. 5 ст. 152, ст. 157 УПК РФ). В данных нормах используются следующие термины: неотложные следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, розыскные меры, оперативно-розыскные меры. Они, образно выражаясь, являются квинтэссенцией института неотложных следственных действий. При этом исследователи в рамках научного анализа указанных терминов как институциональных элементов предпочи- тают приоритетным «разобраться» с феноменом «неотложные следственные действия», оставляя за контуром одноименного уголовно-процессуального института имманентно присущие ему понятия – оперативно-розыскные мероприятия, розыскные меры, оперативно-розыскные меры. Это можно проследить на примере большинства публикаций по обозначенной тематике, увидевших свет как в период действия УПК РСФСР, так и после введения в действие УПК РФ [21, с. 43-48; 15, с. 15-16; 23, с. 408-409].
При характеристике института неотложных следственных действий вполне объяснимо дозированное (по минимуму) рассмотрение содержащихся в ст. 157 УПК РФ терминов «оперативно-розыскные мероприятия», «розыскные меры», поскольку они подробно освещаются в литературе по оперативно-розыскной деятельности [7; 24; 27]. Включенный же в нее термин «оперативно-розыскные меры» предан фактическому забвению и обходится стороной исследователями названного института искусственно. Он не имеет уголовно-процессуальной природы, не характерен для терминологии, ориентированной на область уголовного судопроизводства. Судя по названию, термин «оперативно-розыскные меры» тяготеет к понятиям, используемым в законодательстве об оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД). Однако он не нашел легализации в законе об ОРД. Приведем собственную точку зрения по поводу обоснованности нахождения в понятийном ряду института неотложных следственных действий термина «оперативно-розыскные меры».
Последний относится к часто употребляемым в литературе, отражающей проблематику ОРД, в связи с чем вполне прогнозируемо возникла необходимость разграничения близких, почти совпадающих по наименованию действий, осуществляемых субъектами ОРД, – «оперативно-розыскные мероприятия» и «оперативно-розыскные меры». По мнению В.М. Атматжитова и В.Г. Боброва, оперативно-розыскные меры – более емкая категория в сравнении с оперативно-розыскными мероприятиями, которые составляют лишь определенную их часть [2, с. 21]. Оставалось загадкой: какие конкретно действия могли «соседствовать» с оперативно-розыскными мероприятиями?
С точки зрения В.В. Антонова, оперативно-розыскные меры способствуют решению оперативно-тактических задач и заключаются, например, в оперативном обслуживании объектов, использовании оперативных учетов, ведении оперативной разработки, осуществлении оперативно-экономического анализа [1, с. 61].
Другие авторы (В.А. Лукашов, Е.А. Митрофанов, С.С. Овчинский) придерживаются позиции о том, что отличие действий, входящих в структуру мер и мероприятий, состоит в их целевой направленности: ОРМ направлены на решение оперативно-тактических задач, тогда как оперативно-розыскные меры являются способом решения более масштабных задач организационно-управленческого и организационно-тактического плана [24, с. 20].
Поддерживая данный подход к разграничению категорий «оперативно-розыскные меры» и «оперативно-розыскные мероприятия», А.Е. Чечётин подчеркивает, что в законе об ОРД понятие «оперативно-розыскные меры» не используется [24, с. 22]. Что этим хочет сказать ученый? Может быть то, что данный термин не относится к сфере ОРД? Но тогда почему он сравнивается с оперативно-розыскным мероприятиями, выражающими главное содержание ОРД?
Интересными в анализе категории «оперативно-розыскные меры» являются также следующие аспекты.
Так, специалистами в области ОРД, как уже отмечалось, утверждается, что оперативно-розыскные меры позиционируются в качестве инструмента решения организационно-управленческих и организационно-тактических задач, возникающих в ходе ОРД. Длительный период, пока не был принят закон об ОРД, рассматриваемые категории отождествлялись. Однако законом воспринят только один из них. Примечательно, что такой выбор законодателя не квалифицируется в теории ОРД как пробел в праве или его не- достаток. Отсюда в юридической литературе не звучат и предложения о дополнении оперативно-розыскного законодательства термином «оперативно-розыскные меры».
Не уделяют сколько-нибудь серьезного внимания факту присутствия в ч. 4 ст. 157 УПК РФ термина «оперативно-розыскные меры» и ученые-процессуалисты. При характеристике действий органа дознания после направления возбужденного им уголовного дела руководителю следственного органа, когда лицо, совершившее преступление, не обнаружено, они лишь констатируют перенос термина «оперативно-розыскные меры» из ч. 4 ст. 119 УПК РСФСР в ч. 4 ст. 157 УПК РФ.
Например, комментируя ст. 119 УПК РСФСР, Б.Т. Безлепкин говорит о необходимости активного осуществления ОРД для установления лица, совершившего преступление, периодического информирования следователя, в производстве которого находится уголовное дело, о результатах оперативно-розыскных мероприятий. При этом фигурирующий в комментируемой норме термин «оперативно-розыскные меры» не упоминается [12, с. 187-188]. Этот же автор, комментируя уже ч. 4 ст. 157 УПК РФ, «вспоминает» об упоминаемом в ней понятии «оперативно-розыскные меры» и фактически воспроизводит содержание указанной нормы без намека на то, какие же оперативно-розыскные меры имеются в распоряжении органа дознания [11, с. 229].
Изучение большей части доступных нам литературных источников, посвященных неотложным следственным действиям [напр.: 4; 10; 20; 22; 28], показывает, что сегодня на теоретическом уровне нет вразумительных объяснений одновременному использованию в конструкции института неотложных следственных действий понятий «оперативно-розыскные меры» и «оперативно-розыскные мероприятия». Последнее детально выражено в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» в противовес даже не упоминаемому в нем виртуальному понятию «оперативно-розыскные меры».
С учетом изложенного нельзя считать, что понятийный аппарат правового института неотложных следственных действий сформировался, образует системное единство, и для его поддержания в рабочем состоянии достаточно уточнения нюансов нормативных формулировок конкретных понятий. Ответы на поставленные вопросы можно получить при их рассмотрении с позиций уголовно-процессуального, оперативно-розыскного, полицейского законодательства и реальных правоприменительных потребностей отношений, связанных с производством неотложных следственных действий.
Список литературы О понятийном аппарате института неотложных следственных действий
- Антонов, В.В. К вопросу о сущности и содержании оперативно-розыскных мер / В.В. Антонов // Актуальные вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности. Труды Академии управления МВД России. – М., 2001.
- Атматжитов, В.М. Об основных направлениях дальнейшего развития теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел / В.М. Атматжитов, В.Г. Бобров // Актуальные вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности. Труды Академии управления МВД России. – М., 2001.
- Баранов, А.М. Основные понятия Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: монография / А.М. Баранов, К.Н. Смирнова. – М., 2015.
- Барсукова, Т.В. Неотложные следственные действия и ошибки при их производстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Т.В. Барсукова. – Воронеж, 2003.
- Беляева, Г.С. К вопросу о понятии и признаках юридических институтов / Г.С. Беляева, В.И. Кузьменко, А.А. Умаров // Пробелы в российском законодательстве. – 2018. – N 4. – С. 101-104.
- Братусь, С.Н. Предмет и система гражданского права / С.Н. Братусь. – М., 1963.
- Гусев, В.А. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности: вопросы теории и практики / В.А. Гусев. – Хабаровск, 2011.
- Ильина, Е.В. Оперативно-розыскное обеспечение производства неотложных следственных действий / Е. В. Ильина, А.И. Мелихов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – N 2 (14). – С. 108-115.
- Иоффе, О.С. Основы советского гражданского законодательства / О.С. Иоффе, Ю.К. Толстой. – Л., 1962.
- Кардашевская, М.В. Уголовно-процессуальная характеристика неотложных следственных действий и их система / М.В. Кардашевская // Вестник Московского университета МВД России. – 2012. – N 6.
- Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под ред. И.Л. Петрухина. – М., 2002.
- Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / под ред. В.М. Савицкого, Б.Т. Безлепкина, П.А. Лупинской [и др.]. – М., 1999.
- Купряшина, Е.А. Институт неотложных следственных действий / Е.А. Купряшина, А.В. Воловичева, Д.А. Рубан // Государство созидающее: правовые ресурсы формирования: материалы международной научно-практ. конф., посвященной 25-летию юридического института НИУ «БелГУ». – Белгород, 2018. – С. 116-118.
- Лантух, Н.В. Теория уголовно-процессуальных институтов: монография / Н.В. Лантух. – СПб., 2015.
- Масленков, С.Л. О соотношении дознания, неотложных следственных действий и оперативно-розыскной деятельности / С.Л. Масленков // Следователь. – 2004. – N 5. – С. 15-16.
- Матвеев, Г.М. Советское гражданское право. Т. 1 / Г.М. Матвеев, В.А. Попов, А.А. Пушкин ; под ред. О.А. Красавчикова. – М., 1968.
- Мядзелец, О.А. Отраслевые исследования категории «правовой институт» и их взаимосвязь с теорией уголовно-процессуальных институтов / О.А. Мядзелец // Российская юстиция. – 2023. – N 2. – С. 38-46.
- Осипов, Ю.К. Понятие институтов гражданского процессуального права / Ю.К. Осипов // Правоведение. – 1973. – N 1. – С. 54-60.
- Супрун, С. Понятие и система неотложных следственных действий / С. Супрун // Уголовное право. – 2007. – N 4. – С. 98-102.
- Токарева, Е.В. Неотложные следственные действия: современное состояние и тенденции развития уголовно-процессуальных норм, регламентирующих их производство / Е.В. Токарева, В.С. Хоршева, С.Г. Еремин // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2020. – N 1 (52). – С. 145-153.
- Уткин, М.С. Соотношение первоначальных, последующих и неотложных следственных действий / М.С. Уткин // Раскрытие преступлений и предупреждение правонарушений: сборник научных трудов. – Омск, 1979. – С. 43-48.
- Фадеев, И.А. Нормативное правовое регулирование уголовно-процессуальной деятельности и органов дознания МВД России на современном этапе: монография / И.А. Фадеев. – М., 2022.
- Фадеев, И.А. Правовой институт неотложных следственных действий: краткий экскурс в историю вопроса / И.А. Фадеев // Евразийский юридический журнал. – 2021. – N 7 (158). – С. 408-409.
- Чечётин, А.Е. Оперативно-розыскные мероприятия и права личности: монография / А.Е. Чечётин. – Барнаул, 2006.
- Шахнавазов, Р.А. Производство неотложных следственных действий как уголовно-процессуальный институт: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Р.А. Шахнавазов. – Ростов-на-Дону, 2005.
- Шерстюк, В.М. Система советского гражданского процессуального права. Вопросы теории / В.М. Шерстюк. – М., 1989.
- Шумилов, А.Ю. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий / А.Ю. Шумилов. – М., 1999.
- Шурухнов, Н.Г. Эволюция неотложных следственных действий: ретроспективный анализ законодательных актов, предшествовавших принятию статьи 157 УПК РФ / Н.Г. Шурухнов // Пробелы в российском законодательстве. – 2020. – Том XIII. – N 3. – С. 225-229.
- Якушев, В.С. О понятии правового института / В.С. Якушев // Правоведение. – 1970. – N 6. – С. 61-67.