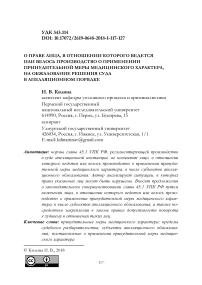О праве лица, в отношении которого ведется или велось производство о применении принудительной меры медицинского характера, на обжалование решения суда в апелляционном порядке
Автор: Килина И.В.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 1, 2018 года.
Бесплатный доступ
Нормы главы 45.1 УПК РФ, регламентирующей производство в суде апелляционной инстанции, не называют лицо, в отношении которого ведется или велось производство о применении принудительной меры медицинского характера, в числе субъектов апелляционного обжалования. Автор анализирует ситуации, в которых права указанных лиц могут быть нарушены. Вносит предложения о законодательном совершенствовании главы 45.1 УПК РФ путем включения лица, в отношении которого ведется или велось производство о применении принудительной меры медицинского характера, в число субъектов апелляционного обжалования, а также посредством закрепления в законе правил допустимости поворота к худшему в отношении таких лиц.
Принудительные меры медицинского характера, пределы судебного разбирательства, субъекты апелляционного обжалования, постановление о применении принудительной меры медицинского характера
Короткий адрес: https://sciup.org/147226669
IDR: 147226669 | УДК: 343.114 | DOI: 10.17072/2619-0648-2018-1-117-127
Текст научной статьи О праве лица, в отношении которого ведется или велось производство о применении принудительной меры медицинского характера, на обжалование решения суда в апелляционном порядке
О дним из результатов дифференциации уголовно-процессуальной формы является закрепление в УПК РФ гл. 51, посвященной производству о применении принудительных мер медицинского характера. Основанием для выделения рассматриваемой категории дел является наличие у лиц, совершивших общественно опасное деяние, психических расстройств, исключающих привлечение указанных лиц к уголовной ответственности или делающих невозможным в их отношении назначение или исполнение наказания.
Лицо может заболеть психическим расстройством до, в момент, после совершения общественно опасного деяния, в момент назначения или исполнения наказания. Если психическое заболевание неизлечимо – лицо освобождается от уголовной ответственности.
Основополагающим является закрепленное в ч. 2 ст. 433 УПК РФ правило, в силу которого «принудительные меры медицинского характера назначаются в случае, когда психическое расстройство лица связано с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда».
Объем гарантий соблюдения в уголовном судопроизводстве прав и законных интересов лиц, страдающих психическими заболеваниями, безусловно, не может быть меньшим, чем для подозреваемых, обвиняемых.
Процессуальный статус указанных лиц в УПК РФ, на наш взгляд, регламентирован недостаточно полно. За пределами правового регулирования остался ряд вопросов, касающихся допустимости ухудшения положения лиц, в отношении которых ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера в процессе реализации ими права на обжалование постановлений суда.
В проверочных стадиях уголовного процесса реализуется принцип запрета поворота к худшему (non reformatio in pejus), распространяющий свое действие, в том числе, на случаи обжалования постановлений суда, вынесенных в рамках гл. 51 УПК РФ.
Reformatio in pejus при производстве о применении принудительной меры медицинского характера возможен в двух направлениях: 1) при определении вида принудительной меры медицинского характера; 2) при определении правовой квалификации совершенного лицом общественно-опасного деяния. Остановимся подробней на каждом из случаев.
По итогам рассмотрения данной категории дел к лицу может быть применен один из четырех видов принудительных мер медицинского характера, предусмотренных ст. 99 УК РФ.
В случае неправильного определения судом первой инстанции вида принудительной меры медицинского характера у суда апелляционной инстанции может появиться необходимость в ее изменении, как на более мягкую, так и на более строгую. Отсюда требует разрешения вопрос о том, како- вы пределы прав суда в подобной ситуации. Иными словами, требует выяснения вопрос: имеет ли место поворот к худшему в тех случаях, когда суд вышестоящей инстанции принимает решение об изменении вида принудительной меры медицинского характера с менее строгого на более строгий? Значение имеет и то, вправе ли суд апелляционной инстанции принимать такое решение самостоятельно (ex officio).
При решении аналогичного вопроса о возможности суда апелляционной инстанции по собственной инициативе изменить вид исправительного учреждения, в судебной практике сложился однозначный подход, что принятие такого решения есть не что иное, как поворот к худшему в отношении осужденного, в связи с чем он не может быть допущен без соответствующей жалобы, представления, направленных потерпевшим, частным обвинителем, их законными представителями или представителями либо прокурором. В ситуации с изменением вида принудительной меры медицинского характера, на наш взгляд, необходим иной подход, в соответствии с которым в случае, когда применяемая к лицу принудительная мера медицинского характера была выбрана неправильно, суд апелляционной инстанции вправе по собственной инициативе изменять вид принудительной меры медицинского характера.
В науке и практике встречаются различные подходы относительно решения вопроса о возможности изменения судом апелляционной инстанции вида принудительной меры медицинского характера, примененного судом первой инстанции.
Обратимся к позиции по данному вопросу, занятой Верховным Судом РФ в постановлении Пленума от 7 апреля 2011 г. № 26 «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера». В силу п. 25 указанного постановления, изменение вида назначенной принудительной меры медицинского характера допускается только путем ее замены на менее строгую, в противном случае дело должно быть направлено в нижестоящий суд на новое рассмотрение, при этом в ревизионном порядке принятие такого решения не допускается1.
Представляется, позиция, изложенная в указанном постановлении, не учитывает законодательных изменений, направленных на реформирование проверочных стадий, внесенных Федеральным законом РФ от 29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ2.
На страницах комментария к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам находим следующее предложение: «С учетом положений этого (№ 433-ФЗ. – Выделено И. К. ) Закона вышестоящий суд при рассмотрении апелляционных жалобы или представления вправе изменить назначенный судом вид принудительной меры медицинского характера не только на менее строгий, но и на более строгий, если о том ставится вопрос в жалобе или представлении, не направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции»3.
Считаем возможным обратиться также к позиции Верховного Суда СССР, указанной в ныне утратившем силу, но не значение постановлении Пленума от 26 апреля 1984 г. № 4 «О судебной практике по применению, изменению и отмене принудительных мер медицинского характера». Пункт 21 указанного постановления содержал указание на возможность суда кассационной или надзорной инстанции по собственной инициативе заменять вид применяемой принудительной меры медицинского характера4.
Как видим, позиция Верховного Суда по указанному вопросу менялась с течением времени. Представляется, разрешая обозначенную проблему, необходимо в первую очередь исходить из самой сущности института производства о применении принудительных мер медицинского характера. Решение о возможности поворота к худшему должно решаться через призму того, что производство о применении принудительных мер медицинского характера имеет цели отличные от целей наказания, необходимо понимать, что лицу должно быть обеспечено не просто соблюдение законной процедуры при производстве по уголовному делу, а в первую очередь возможность излечения. Статья 98 УК РФ в качестве целей применения принудительных мер медицинского характера называет «излечение лиц, указанных в части первой статьи 97 настоящего Кодекса, или улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими новых деяний, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса».
По нашему мнению, лишение суда апелляционной инстанции возможности по собственной инициативе, независимо от доводов апелляционной жалобы, представления изменить принудительную меру медицинского характера, например, лицу, которому назначено принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа, если такое лицо нуждается в интенсивном наблюдении и это обстоятельство было установлено в ходе судебного разбирательства таит в себе опасность как для самого лица, страдающего психическим заболеванием, так и для общества.
Согласимся с В. С. Егоровым, полагающим, что «меры превентивного и ресоциализирующего воздействия (к которым автор относит и принудительные меры медицинского характера. – Выделено И. К. ) имеют принудительный характер и непосредственно связаны с ограничением или лишением прав и свобод лица, к которому они применяются. Вместе с тем они … не содержат кары и не подразумевают каких-либо страданий человека, к которому они применяются»5.
Представляется, что такое решение должно приниматься судом апелляционной инстанции самостоятельно, однако должно сопровождаться исследованием доказательств, на основании которых суд принимает указанное решение.
Рассмотрим возможность принятия решения, ухудшающего положение лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера при определении правовой квалификации совершенного этим лицом общественно опасного деяния.
Пленум Верховного суда в п. 20 вышеназванного постановления предписывает судам «давать юридическую оценку действиям такого лица и приводить мотивы принятого решения». В материалах уголовного дела, безус- ловно, должны иметься доказательства совершения лицом общественноопасного деяния. Считаем необходимым закрепить в ст. 443 требование указания в постановлении суда о применении принудительных мер медицинского характера перечня доказательств лицом совершения общественно опасного деяния и их краткой характеристики.
Далее, остановимся на пределах прав суда апелляционной инстанции в случаях вынесения постановления об отмене постановления суда о применении принудительной меры медицинского характера и возвращении уголовного дела прокурору, в соответствии со ст. 237 УПК РФ. Принятие такого решения зачастую сопряжено с поворотом к худшему для лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера. В частности, п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ позволяет суду по собственной инициативе возвращать дело прокурору для исправления ошибок квалификации деяния, допущенных органами предварительного расследования, а также в случаях, когда «в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства установлены фактические обстоятельства, указывающие на наличие оснований для квалификации действий указанного лица как более тяжкого общественно опасного деяния».
Квалификация деяния, определяемая в постановлении о назначении принудительной меры медицинского характера, имеет юридическое значение, при определении формулировки деяния должны быть соблюдены права потерпевшего.
Так, постановлением Тавдинского районного суда Свердловской области от 27 апреля 2015 года к Т. применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у психиатра в амбулаторных условиях по месту жительства.
Постановление суда было обжаловано в апелляционном порядке представителем потерпевшей, указавшей в апелляционной жалобе, что «действиям Т. дана правовая оценка, которая явно не соответствует изложенным в постановлении фактическим обстоятельствам дела и представляет собой указание на менее тяжкое деяние, что не обеспечивает защиту прав и законных интересов потерпевшего». По мнению представителя потерпевшей, «в действиях Т. усматривается наличие признаков более тяжкого запрещенного уго- ловным законом деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, с квалифицирующим признаком “группой лиц по предварительному сговору”». В обоснование приводятся фактические обстоятельства дела, установленные судом в обжалуемом постановлении.
Соглашаясь с доводами представителя потерпевшей суд указал, что действиям Т. дана правовая оценка, которая явно не соответствует изложенным в постановлении фактическим обстоятельствам дела и представляет собой указание на менее тяжкое деяние, что не обеспечивает защиту прав и законных интересов потерпевшего. При таких обстоятельствах постановление Тавдинского районного суда Свердловской области от 27 апреля 2015 года отменено, уголовное дело возвращено прокурору6.
Как видим, на сегодняшний день закон допускает принятие сопряженного с поворотом к худшему решения о направлении уголовного дела прокурору, направленного на исправление ошибок квалификации, допущенных органами предварительного расследования. При этом считаем, что направление уголовного дела прокурору, на основании п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, должно допускаться судом лишь до вступления решения суда в законную силу, т. е. в ходе предварительного слушания на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, в ходе разбирательства дела судом первой, апелляционной, но не кассационной и надзорной инстанций.
В ситуации, когда психическое расстройство подсудимого обнаруживается на стадии судебного разбирательства, суд рассматривает уголовное дело в соответствии с нормами гл. 51 УПК РФ, а по итогам рассмотрения дела применяет при наличии к тому оснований принудительную меру медицинского характера. Однако в случаях, когда изначально уголовное дело расследовалось в форме дознания, то уголовное дело подлежит возвращению прокурору, который направит его для производства предварительного следствия, обязательного для данной категории уголовных дел7.
По нашему мнению, при данных обстоятельствах поворот к худшему, связанный с формулировкой совершенного лицом общественно опасного деяния может иметь место только в тех случаях, когда наряду с необходимостью производства предварительного расследования в качестве основания для возвращения дела прокурору были названы неверная, чрезмерно мягкая квалификация деяния. Иными словами, указанная в обвинительном акте, поступившем в суд вместе с уголовным делом, квалификация деяния не может быть изменена на более тяжкую, если уголовное дело было направлено прокурору исключительно в связи с необходимостью производства предварительного следствия.
Статья 444 УПК РФ, закрепляющая порядок обжалования, не вступившего в законную силу постановления о применении принудительной меры медицинского характера, отсылает к гл. 45.1, устанавливая, что при реализации участниками процесса права обжаловать такое постановление применяются общие нормы, регламентирующие производство в суде апелляционной инстанции.
Однако при анализе норм гл. 45.1 не обнаруживается ни одной нормы, в которой бы упоминалось лицо, в отношении которого вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера, указанная категория участников процесса, без преувеличения, осталась за пределами правового регулирования.
Представляется, для преодоления этой проблемы могут быть избраны два пути решения. Первый: закрепление непосредственно в гл. 51 УПК РФ правовых норм, закрепляющих особенности обжалования постановлений суда о применении принудительных мер медицинского характера. Второй путь, на наш взгляд, более приемлемый: включение в нормы глав 45.1 (и по тем же причинам в нормы глав 47.1, 48.1 УПК РФ) лиц, в отношении которых ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера в качестве субъектов обжалования.
Учитывая вышеизложенное, предлагаем ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ «Право апелляционного обжалования» дополнить указанием на то, что « право апелляционного обжалования судебного решения принадлежит лицу, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского характера ».
Статью 389.24 УПК РФ предлагаем изложить в следующей редакции:
-
1. Оправдательный приговор, обвинительный приговор, определение, постановление суда первой инстанции могут быть отменены или изменены в сторону ухудшения положения оправданного, осужденного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, лица, в отношении которого ведется или велось производство по применению принудительной меры медицинского характера, не иначе как на основании и по мотивам представления прокурора либо жалобы потерпевшего, частного обвинителя, их законных представителей и (или) представителей.
-
2. Изменение судом апелляционной инстанции вида принудительной меры медицинского характера допускается судом апелляционной инстанции по ходатайству стороны или по собственной инициативе и не влечет ухудшения положения лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера.
-
3. Принятие судом апелляционной инстанции решений, перечисленных в ч. 1, ч. 2 настоящей статьи, без повторного исследования доказательств, которые были исследованы судом первой инстанции, не допускается».
Представляется, предлагаемые изменения будут способствовать соблюдению прав и законных интересов лиц, в отношении которых ведется или велось производство о применении принудительных мер медицинского характера.
Список литературы О праве лица, в отношении которого ведется или велось производство о применении принудительной меры медицинского характера, на обжалование решения суда в апелляционном порядке
- Борисевич Г. Я. Законодательное регулирование производства по применению принудительных мер медицинского характера нуждается в совершенствовании // Тезисы докладов международной научно-практической конференции «Пермский конгресс ученых-юристов». 2010.
- Егоров В. С. Понятие и сущность государственного принуждения превентивного и ресоциализирующего характера // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2010. Вып. 4(10). С. 197-205.
- Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам / Н. И. Бирюков, О. Н. Ведерникова, С. А. Ворожцов и др.; под общ. ред. В. М. Лебедева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2014.
- Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Часть 2: Актуальные вопросы судебной практики, рекомендации судей Верховного Суда РФ по применению уголовно-процессуального законодательства на основе новейшей судебной практики: практ. пособие / В. А. Давыдов, В. В. Дорошков, Н. А. Колоколов и др.; под ред. В. М. Лебедева. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016.