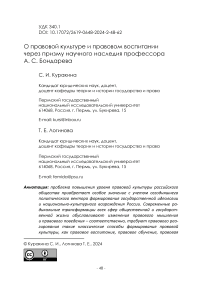О правовой культуре и правовом воспитании через призму научного наследия профессора А. С. Бондарева
Автор: Куракина С. И., Логинова Т. Е.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Теоретико-исторические правовые науки
Статья в выпуске: 2, 2024 года.
Бесплатный доступ
Проблема повышения уровня правовой культуры российского общества приобретает особое значение с учетом сегодняшнего политического вектора формирования государственной идеологии и национально-культурного возрождения России. Современные радикальные трансформации всех сфер общественной и государственной жизни обуславливают изменения правового мышления и правового поведения - соответственно, требуют правового реагирования такие классические способы формирования правовой культуры, как правовое воспитание, правовое обучение, правовая пропаганда. В статье исследуется состояние современной правовой культуры российского общества, учитывая ее исторический контекст; анализируется ее становление, содержание и структура; определяются ее формы, средства и методы формирования. Авторами дается обзор существующих точек зрения на феномен правовой культуры, на определение форм правового воспитания, выявляются проблемы развития правовой культуры современного российского общества. Все затронутые в статье вопросы анализируются в фокусе научных исследований профессора кафедры теории и истории государства и права Александра Семеновича Бондарева.
Право, правовое государство, правовая культура, правосознание, правовое воспитание, правовая пропаганда, правовое обучение
Короткий адрес: https://sciup.org/147244114
IDR: 147244114 | УДК: 340.1 | DOI: 10.17072/2619-0648-2024-2-48-62
Текст научной статьи О правовой культуре и правовом воспитании через призму научного наследия профессора А. С. Бондарева
В российской науке на сегодняшний день не сложилось «единого образа» правовой культуры, несмотря на имеющееся множество ее определе‐ ний – более двухсот пятидесяти, по мнению Е. А. Певцовой2.
Еще в начале XX века русский правовед и философ Богдан Кистяков‐ ский (1868–1920) усматривал «нормальное, цивилизованное развитие обще‐ ства» в достижении «живого и активного правосознания народа, устойчиво‐ сти гражданского правопорядка, высокого и независимого положения суда в обществе». В своих трудах он указывал на то обстоятельство, что «право... является частью культурного творчества людей и тесно связано с другими его проявлениями»3.
У видного отечественного мыслителя Ивана Ильина (1883–1954) сло‐ жилось свое представление о правовой культуре. Размышляя в своих работах о правосознании личности как главенствующем элементе правовой культу‐ ры, И. Ильин указывает, что «правовая культура, справедливый закон, право‐ порядок – важнейшие факторы, способствующие реализации достоинства личности. Вместе с тем должный уровень правовой культуры не только обла‐ гораживает личность, но и способствует ей осознать свое достоинство – истинную социальную ценность и значимость»4.
Стоит отметить, что само сущностное исследование феномена право‐ вой культуры в отечественной науке началось относительно недавно – в 60–70‐е годы XX века. А. С. Бондарев указывает в обозначенное время на
Л. С. Галесника как первого ученого, который назвал правовую культуру не‐ обходимым элементом демократизации правовой жизни страны5. В даль‐ нейшем научные изыскания в этой области получили весомое развитие в трудах многих ученых‐правоведов, но вместе с этим выявилось большое раз‐ нообразие мнений в понимании как культуры вообще, так и правовой куль‐ туры в частности.
В Большой российской энциклопедии (редактор С. Л. Кравец) термин «культура» трактуется «как исторически сложившийся образ жизни людей, включающий в себя ценности и нормы, верования и обряды, знания и уме‐ ния, обычаи и установления, технику и технологии, способы мышления, дея‐ тельности, взаимодействия и коммуникации»6. Данное описательное поня‐ тие культуры используется в разных науках. Однако Александр Семенович Бондарев в своей монографии «Современные формы, средства и методы воспитания правовой культуры россиян» разграничивает два этапа исследо‐ вания культуры. Первый этап связан с философским подходом, определяю‐ щим культуру как совокупность материальных и духовных ценностей, кото‐ рые являются результатом общественно‐исторической трудовой деятель‐ ности человека (к примеру, такой подход прослеживается в работах Г. Г. Карпова, А. Г. Спиркина и др.)7. На втором этапе к пониманию культуры как совокупности ценностей было добавлено новое значение – культуры как процесса культурной деятельности, в ходе которой вырабатываются, распре‐ деляются и потребляются культурные ценности (к примеру, такой подход предлагали В. М. Межуев, Э. А. Баллер, Н. С. Злобин и др.)8.
Что касается правовой культуры, то, как уже было отмечено, многооб‐ разие толкований само́й культуры породило научную многозначность и дан‐ ного феномена.
К примеру, С. С. Алексеев определяет правовую культуру «как совокуп‐ ность знаний, навыков применения, соблюдения и использования законов, а также их глубокое уважение»9. Н. И. Матузов и А. В. Малько к характерным чертам правовой культуры относят «1) достаточно высокий (приемлемый) уровень правосознания; 2) знание действующих законов страны... 3) соблю‐ дение, исполнение или использование этих законов... 4) убеждение в необ‐ ходимости, полезности, целесообразности законов и иных правовых актов, внутреннее согласие с ними»10. В. К. Бабаев, В. Н. Баранов в содержание пра‐ вовой культуры включают также «сознательное выполнение требований пра‐ ва в жизнедеятельности человека»11. По мнению В. М. Чхиквадзе, «правовая культура – это система определения правовых идей, нравственных норм и других духовных ценностей, формирующих правосознание и направляющих поведение социальных групп, коллективов и отдельных личностей в соответ‐ ствии с требованиями социалистического права и законности»12. Данное ви‐ дение ученого интересно тем, что включает в понимание правовой культуры совокупность правовых и духовных ценностей, связанных с реализацией пра‐ ва. В. И. Каминская, определяя правовую культуру, отождествляет ее со всей правовой системой. Так, в совместном труде с профессором А. Р. Ратиновым она включает в состав правовой культуры следующие компоненты: право, правоотношения, правовые учреждения, правосознание, правовое поведе‐ ние13. Данное представление о структуре правовой культуры поддерживает‐ ся в трудах профессора М. Н. Марченко14. Наконец, заслуживает внимания точка зрения ученых Э. В. Кузнецова, В. П. Сальникова и И. В. Асеева, которые предложили «разделять понимание правовой культуры в узком и широком смыслах». Правовая культура в широком смысле слова, по их мнению, «это совокупность элементов юридической надстройки в их реальном функцио‐ нировании. Правовая культура в узком смысле – явление, выражающее со‐ бой развитость социальных качеств личности (субъекта права), характери‐ зующих ее правосознание, уровень и характер овладения или преобразо‐ вания ею своей социальной сущности, социального опыта»15.
Современные подходы к определению правовой культуры также отли‐ чаются разнополярностью. В частности, профессор А. П. Окусов говорит о правовой культуре как о «совокупности знаний и навыков, умении применять их на деле, обеспечить законность»16; по мнению В. П. Сальникова, «право‐ вая культура – это совокупность всех позитивных компонентов правовой дея‐ тельности в ее реальном функционировании, воплотившая достижения пра‐ вовой мысли, юридической техники и практики»17; Л. А. Морозова называет правовую культуру «качественным состоянием жизни общества»18.
Александр Семенович Бондарев, обобщая многообразие научных под‐ ходов к определению правовой культуры, выводит свое видение данного феномена. Так, в монографии «Современные формы, средства и методы вос‐ питания правовой культуры россиян» он настаивает, что «правовая культура не должна характеризовать какие‐либо правовые ценности, но в первую оче‐ редь должна характеризовать самих создателей этих правовых ценностей – индивидуальных и коллективных субъектов права»19. Правовая культура, как пишет профессор, «есть правовая развитость субъектов, их правовое совер‐ шенство, их вооруженность достаточными правовыми знаниями, убежден‐ ность в необходимости и большой ценности права в данной общественной жизни и непременное реальное воплощение этих правовых знаний и право‐ вой убежденности в своей правомерной деятельности по формированию и реализации права и правовых отношениях»20. Подводя итог, ученый утвер‐ ждает, что многозначность понятия правовой культуры может быть обуслов‐ лена, во‐первых, разными методологическими подходами к установлению ее сущности, а также сложностью и многоаспектностью данного социально‐ правового явления.
Переходя к вопросу о структуре правовой культуры личности, А. С. Бон‐ дарев снова отмечает дискуссионность данного вопроса и одновременно обозначает свое видение этой структуры как двусторонней, ссылаясь на дву‐ сторонний характер действующего права как совокупности объективного и субъективного. К общей части правовой культуры личности А. С. Бондарев относит три элемента. Во‐первых, « знание объективного права », которое он
КУРАКИНА С. И., ЛОГИНОВА Т. Е. ________________________________________________ отграничивает от правосознания, считая эти понятия абсолютно нетождест‐ венными21. Также ученый не соглашается с отождествлением первого эле‐ мента правовой культуры со знанием конкретных норм. В своих работах он разводит эти понятия, ссылаясь на то, что «истинное глубокое знание права невозможно без понимания его природы, исторической необходимости, сущности, основных принципов»22. Вторым структурным элементом право‐ вой культуры А. С. Бондарев называет « позитивную правовую убежденность субъектов права »23, характеризуя ее как имеющую сложное содержание, складывающееся из рационального, эмоционального и волевого компонен‐ тов. Наконец, третий элемент исследуемого феномена – это « социально‐ правовая активность субъектов права »24. А. С. Бондарев отмечает, что данный элемент в отечественной теории права сравнительно недавно стал предметом научных исследований. Первые комплексные работы датируются им 60–70‐ми годами прошлого столетия. При этом указывается, что отдель‐ ные авторы рассматривают данное явление не только в позитивном ключе. Ученый резюмирует по этому поводу, что социально‐правовую активность субъектов права предпочтительнее анализировать как неотъемлемую часть их правовой культуры.
Далее рассмотрим правовое воспитание, которое А. С. Бондарев назы‐ вает «сознательно организованным и целенаправленным формированием правовой культуры россиян», и начнем с обзора основных методов форми‐ рования правовой культуры российского общества.
Примерно в то же время, то есть в 60‐е годы ХХ столетия, когда в отече‐ ственной юридической науке активно стал исследоваться феномен правовой культуры, появляются размышления ученых‐правоведов о проблеме правово‐ го воспитания. В первую очередь делается попытка определить, по сути, новое для теории права понятие, раскрыть его содержание. Снова разворачивается дискуссия, и снова наблюдается разнополярность в понимании вопроса. К примеру, профессор И. Ф. Рябко предлагает понимать под правовым воспи‐ танием определенное влияние на сознание и психологию воспитуемых25. Од‐ нако данная позиция вполне справедливо подвергается научной критике вви‐ ду ее излишне широкого подхода. По мнению А. С. Бондарева, наиболее удач‐ ное определение дается в работе М. М. Галимова, предложившего понимать под правовым воспитанием «формирование правосознания воспитуемых». Вместе с тем А. С. Бондарев дополняет его, определяя правовое воспитание как «часть правовой социализации личности в пределах правового пространст‐ ва общества, представляющую собой процесс правового развития человека в результате стихийных и организованных воздействий на него всей совокупно‐ сти юридических факторов общественного бытия»26.
Обращаясь к формам, средствам и методам правового воспитания, обозначим наиболее распространенные в отечественной науке подходы к их определению.
Прежде всего следует отметить, что в работах разных авторов просле‐ живается смешение форм и средств правовоспитательной работы. К приме‐ ру, И. В. Щепеткина, анализируя эколого‐правовое воспитание, относит «дис‐ куссии, круглые столы, конференции не к средствам, а к формам»27. Учитывая современные реалии – внедрение цифровых технологий во все сферы обще‐ ственной и государственной жизни, – некоторые ученые говорят о необхо‐ димости пополнения «классического ряда» средств и форм правового вос‐ питания новыми, а именно самовоспитанием, когда сам индивид прилагает усилия к формированию своего правосознания, повышению интереса и ак‐ тивности в данной деятельности, в том числе с помощью справочно‐ информационных систем28. Профессор С. А. Денисов перечисляет такие сред‐ ства формирования правового воспитания, как «обучение, пропаганда права, самообразование, деятельность по пресечению правонарушений и привле‐ чению к юридической ответственности»29. Интересны позиции Ю. А. Дмит‐ риева, который к обязательным формам правового воспитания относит «правовую пропаганду СМИ, произведения искусства и литературы»30, и Н. М. Ефиценко, полагающей, что «существует две формы правового воспи‐ тания. Это правовое образование (обучение) и пропаганда права»31. Ряд ав‐ торов относят к форме правового воспитания также повседневный опыт32, который нередко может быть и вовсе ошибочным и требует проверки.
В этом важном вопросе вновь обратимся к позиции А. С. Бондарева. И в первую очередь согласимся с утверждением профессора об обязательно‐ сти разграничения форм и средств правовоспитательной деятельности. Здесь, по мнению А. С. Бондарева, самой удачной представляется формули‐ ровка В. П. Зенина, указывающего на то, что «формы правового воспитания есть внешние способы выражения правовоспитательной деятельности»33. «Таких форм... юридическая практика выработала три: это правовая пропа‐ ганда, правовое обучение, организованная и контролируемая правовая прак‐ тика. Средства же правового воспитания – это “каналы”, по которым форма правового воспитания оказывает свое воздействие на те или иные стороны предмета правового воспитания»34.
Итак, правовая пропаганда , будучи одной из форм правового воспита‐ ния, осуществляется через многочисленные каналы правовоспитательного воздействия на правосознание и правовое поведение воспитуемых. Это и лекции, и конкурсы знатоков права, и статьи в печати на правовые темы. А. С. Бондарев настаивал, что «правовая пропаганда в правовом государст‐ ве содержательно должна покоиться на истинно научных правовых идеях, правовых теориях»35.
Правовая пропаганда является в обществе одним из видов пропаганды вообще, наряду с политической, нравственной, экономической и др. Сам термин «пропаганда» происходит от латинского “prораgаrе”, что означает «распространять».
За свою длительную историю пропаганда выработала богатый арсенал средств и методов деятельности. И правовая пропаганда не исключение: со‐ временные ее средства тоже весьма разнообразны. По способам распростра‐ нения правовых знаний и формированию правовых убеждений у воспитуемых эти средства можно разделить на три вида: устные, печатные, виртуальные.
Интересно, что проводимые периодически социологические опросы убедительно констатируют значительное влияние и преимущество именно устных средств пропаганды. Ведь, например, «живая» лекция предполагает возможность использования лектором дополнительных средств воздействия на воспитуемых, и в первую очередь средств эмоционального воздействия: мимики, жестов, темпа речи, даже интонации. Особенно очевидно это стало после пандемии, во время которой устная правовая пропаганда была огра‐ ничена36. Вместе с тем исключать потенциал письменных и тем более дис‐ танционных средств правовой пропаганды в нынешнее время было бы не‐ правильным. Как справедливо отмечалось А. С. Бондаревым, письменные материалы правовой пропаганды могут быть в постоянной доступности, вос‐ питуемый может периодически обращаться к ним. К тому же не стоит забы‐ вать, что к письменным средствам правовой пропаганды относятся и норма‐ тивные правовые акты, и комментарии ученых‐юристов, и различные статьи по теме права в СМИ.
Что касается виртуальных средств правовой пропаганды, то они, безу‐ словно, приобретают всё большее и большее значение, которое постепенно становится определяющим. С появлением персональных компьютеров стало возможно накапливать, хранить и передавать любую информацию в элек‐ тронной форме. Правовая информация распространяется чаще всего в виде банков правовых знаний, которые содержат не только материалы, но и поис‐ ковый аппарат к ним. Таковы, к примеру, справочно‐информационные плат‐ формы «КонсультантПлюс», «Гарант» и др., содержащие правовые акты Рос‐ сийской Федерации, основные региональные правовые акты, комментарии к этим правовым актам, материалы судебной практики.
Правовое обучение ключевым образом отличается от правовой пропа‐ ганды. Лишь здесь и воспитуемый, и воспитатель взаимодействуют в рамках правовоспитательного процесса, предполагающего организацию учебного труда и учение как усвоение содержания образования. Не будет преувеличением ска‐ зать, что такая форма правовоспитательной работы, как правовое обучение, является основной и обязательной, поскольку именно на ней основываются другие формы. Минимальный объем правового обучения человек получает в рамках освоения некоторых дисциплин в процессе общего образования.
Правовое обучение можно определить как логически выверенный процесс, который предполагает непосредственную передачу, накопление и усвоение знаний, принципов, норм права, а также формирование соответст‐ вующего отношения к праву и практике его реализации, умения использо‐ вать свои права, соблюдать запреты и исполнять обязанности через разнооб‐ разные теоретические и практические занятия и юридическую практику.
А. С. Бондарев выделял два вида средств правового обучения по силе их воздействия и получаемым результатам у воспитуемых: специализиро‐ ванные и неспециализированные. К первым он относил все правообразова‐ тельные учреждения: правовые академии, юридические факультеты и вузы, правовые колледжи, гимназии. К неспециализированным средствам право‐ вого обучения им были отнесены все остальные учебные заведения, в кото‐ рых наряду с другими видами обучения определенное количество часов отводится и правовому.
В качестве ведущих форм учебно‐воспитательной деятельности в выс‐ шей школе права профессором в первую очередь назывались лекция и семи‐ нар. В своей монографии «Современные формы, средства и методы воспита‐ ния правовой культуры россиян» он определяет лекцию как «живое творчество на глазах аудитории, живое общение правоведа высокой квали‐ фикации с воспитуемыми»37, подытоживая, что «живого лектора» не может заменить никакое печатное слово, а потому сокращение лекционных курсов по праву и свободное посещение их нецелесообразно.
И наконец, отдельное место в системе современных форм развития пра‐ вовой культуры А. С. Бондарев отводит юридической практике. Если точнее, он обозначает эту форму как «включение воспитуемых в организованную и кон‐ тролируемую правовую практику»38. Со ссылкой на профессора В. П. Реутова ученый определяет «юридическую практику как деятельность субъектов права в процессе формирования и реализации его норм, заключающуюся в издании нормативных актов и совершении различных индивидуальных правовых ак‐ тов» и утверждает, что «не может быть признана юридической практикой дея‐ тельность людей, сознательно нарушающих правовые нормы», что «цель юридической практики должна быть законной» и «она не достигается дозво‐ ленными правовыми средствами»39. Рассуждая о значении включения воспи‐
___________________________________ ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ туемого в организованную и контролируемую практику, А. С. Бондарев в пер‐ вую очередь опирается на ключевой принцип современной педагогической науки: «Лучше один раз выполнить действие самому, чем сто раз увидеть, как оно выполняется другими»40. Действительно, на практике студенту вуза пред‐ лагается использовать полученные через средства правовой пропаганды и правового обучения знания для руководства собственной правовой деятель‐ ностью. Именно на практике воспитуемый впервые самостоятельно руководит своим поведением в соответствии с предоставленными ему нормами права, субъективными правами и обязанностями, формирует положительную право‐ вую установку и привычку правомерной жизни.
В заключение изложим наиболее важные научные выводы, к которым мы пришли, изучая научное наследие профессора кафедры теории и истории государства и права Александра Семеновича Бондарева.
Во‐первых, правовая культура, как пишет А. С. Бондарев, «есть право‐ вая развитость субъектов, их правовое совершенство, их вооруженность дос‐ таточными правовыми знаниями, убежденность в необходимости и большой ценности права в данной общественной жизни и непременное реальное во‐ площение этих правовых знаний и правовой убежденности в своей право‐ мерной деятельности по формированию и реализации права и правовых от‐ ношениях»41. Во‐вторых, называя вопрос о структуре правовой культуры личности дискуссионным, сам А. С. Бондарев определяет эту структуру как двустороннюю, ссылаясь на двусторонность действующего права как совокуп‐ ности объективного и субъективного. В‐третьих, размышляя о формах и сред‐ ствах правовоспитательной деятельности, профессор говорит о необходимости их разграничения. К формам он относит правовое обучение, правовую пропа‐ ганду и юридическую практику, тогда как средства определяет как «каналы», по которым форма правового воспитания воздействует на те или иные сторо‐ ны предмета правового воспитания. Рассуждая о ключевых формах воспита‐ ния правовой культуры россиян, А. С. Бондарев вполне справедливо отдает пальму первенства правовому обучению, подчеркивая, что «живого лектора» и его благотворное влияние на эмоционально‐чувственную сферу воспитуемо‐ го ничто не может заменить. Вместе с тем профессионально дальновидно уче‐ ный указывает на стремительно растущую значимость и перспективность вир‐ туальных средств правовой пропаганды и правового обучения.
Список литературы О правовой культуре и правовом воспитании через призму научного наследия профессора А. С. Бондарева
- Адаева О. В. Основные формы правового воспитания в современной России: теоретические и практические аспекты // Теория и практика общественного развития. 2016. № 6. С. 98–100.
- Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М.: Юрид. лит., 1966.
- Баранов П. П. Правосознание и правовое воспитание // Общая теория права: курс лекций. Н. Новгород: Нижегор. высш. шк. МВД РФ, 1993. С. 475–494.
- Баранов П. П., Окусов А. П. Аксиология юридической деятельности: учеб. пособие. Ростов н/Д: РЮИ МВД России, 2003.
- Беспалько В. П., Татур Ю. Г. Системно‐методическое обеспечение учебно‐воспитательного процесса подготовки специалистов: учеб. пособие. М.: Высш. шк., 1989.
- Бондарев А. С. Двухуровневая структура правовой культуры // Правовая культура. 2010. № 2. С. 49–62.
- Бондарев А. С. Понятие правовой культуры // История государства и права. 2011. № 6. С. 13–17.
- Бондарев А. С. Правовая пропаганда и обучение – формы правового воспитания: понятие и средства воздействия // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2008. Вып. 1. С. 4–16.
- Бондарев А. С. Правовая культура – фактор жизни права: моногр. М.: Юрлитинформ, 2012.
- Бондарев А. С. Правосознание – неотъемлемая и ведущая часть правовой культуры // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2016. Вып. 1. С. 6–15.
- Бондарев А. С. Современные формы, средства и методы воспитания правовой культуры россиян: учеб.‐метод. пособие / Перм. гос. ун‐т. Пермь, 2009.
- Бондарев А. С. Юридическая ответственность и безответственность – стороны правовой культуры и антикультуры субъектов права / отв. ред. И. Ю. Козлихин. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2008.
- Венгеров А. Б. Теория государства и права: учеб. М.: Омега‐Л, 2013.
- Галесник Л. С. Общенародное право и воспитание коммунистической сознательности // Советское государство и право. 1962. № 9. С. 26–35.
- Денисов С. А., Смирнов П. П. Теория государства и права: конспект автор. лекций. Тюмень: Вектор Бук, 2000.
- Ефиценко Н. М. Сущность правового воспитания и мероприятия по повышению его эффективности в современном российском обществе // Юридическая мысль. 2013. № 3. С. 28–37.
- Ильин И. А. Теория права и государства / под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2003.
- Каминская В. И., Ратинов А. Р. Правосознание как элемент правовой культуры // Правовая культура и вопросы правового воспитания: сб. науч. тр. / отв. ред. А. Д. Бойков. М.: Изд‐во Всесоюз. ин‐та по изуч. причин и разраб. мер предупреждения преступности, 1974. С. 39–67.
- Кистяковский Б. А. Социальныя науки и право: очерки по методологии социальных наук и общей теории права. М.: М. и С. Сабашниковы, 1916.
- Кузнецов Э. В., Сальников В. П., Асеев И. В. Теория государства и права (определения, схемы, литература) / ред. Э. В. Кузнецов. Л.: Изд‐во ВПУ ВЛКСМ МВД СССР, 1979.
- Марченко М. Н. Правовая культура как социологическая категория // Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. 2013. № 2. С. 45–61.
- Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учеб. для вузов. М.: Юристъ, 2004.
- Морозова Л. А. Теория государства и права: учеб. М.: Юрист, 2002.
- Певцова Е. А. Современные дефинитивные подходы к правовой культуре и правовому сознанию // Журнал российского права. 2004. № 3. С. 70–81.
- Правовое воспитание и социальная активность населения / Н. И. Козюбра, В. П. Зенин, В. А. Чехович и др.; отв. ред. Б. М. Бабий. Киев: Наукова думка, 1979.
- Реутов В. П. О понятии юридической практики // Государство, право, законность. Пермь, 1974. Вып. 5. С. 79–93. (Учен. зап. Перм. ун‐та; № 300).
- Рябко И. Ф. Правосознание и правовое воспитание масс в советском обществе / отв. ред. М. Н. Кулажников. Ростов н/Д: Изд‐во Рост. ун‐та, 1969.
- Сальников В. П. Правовая культура сотрудников органов внутренних дел: учеб. пособие. Л.: ВПУ, 1988.
- Пиголкин А. С., Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А. Теория государства и права: учеб. для бакалавров / под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. М.: Юрайт, 2013.
- Степанов Ю., Орлов А. Учеба на расстоянии: просвещение или мучение? // ВСГУТУ‐online. 2021. 1 марта. URL: https://vsgutu‐online.ru/mneniya/uchyobana‐rasstoyanii‐prosveshhenie‐ ili‐muchenie.html.
- Чхиквадзе В. М. Законность и правовая культура на современном этапе коммунистического строительства // Коммунист. 1970. № 14. С. 42–53.
- Щепеткина И. В. Эколого‐правовое воспитание студентов в образовательном процессе вуза: дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2012.