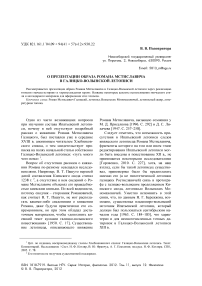О презентации образа Романа Мстиславича в Галицко-Волынской летописи
Автор: Подопригора Василий Вячеславович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Древнерусская литература и книга
Статья в выпуске: 12 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается презентация образа Романа Мстиславича в Галицко-Волынской летописи через реализацию топосов «начала истории» и «происхождения героя». Названы некоторые аспекты использования эпического стиля и легендарного материала для оформления этих топосов.
Роман мстиславич галицкий, летопись волынских мономаховичей, летописный жанр, литературная топика
Короткий адрес: https://sciup.org/14737707
IDR: 14737707 | УДК: 821.161.1`04.09
Текст научной статьи О презентации образа Романа Мстиславича в Галицко-Волынской летописи
Один из часто возникавших вопросов при изучении состава Ипатьевской летописи, почему в ней отсутствует подробный рассказ о княжении Романа Мстиславича Галицкого, был поставлен уже в середине XVIII в. анонимным читателем Хлебниковского списка, о чем свидетельствует приписка на полях начальной статьи собственно Галицко-Волынской летописи: «тутъ много чого нема» 1.
Вопрос об отсутствии рассказа о княжении Романа по-разному освещался исследователями. Например, В. Т. Пашуто верхней датой составления Киевского свода считал 1238 г. 2, а отсутствие в нем сведений о Романе Мстиславиче объяснял его враждебностью киевским князьям. По всей видимости, поэтому сводчик – сторонник Романовичей, как считает В. Т. Пашуто, не мог располагать какими-либо сведениями о княжении Романа, даже будучи практически его современником, но при этом обладал достаточным материалом, чтобы «дополнить киевский текст кусками галицко-волынского повествования» [1950. С. 17]. Существование летописца, описывающего княжение
Романа Мстиславича, вызывало сомнения у М. Д. Приселкова [1996. С. 292] и Д. С. Лихачева [1947. С. 257–258].
Следует отметить, что возможность присутствия в Ипатьевской летописи следов княжеского летописца Романа Мстиславича, фрагменты которого на том или ином этапе редактирования Ипатьевской летописи могли быть внесены в повествование XII в., не принимается некоторыми исследователями [Горовенко, 2010. С. 227], хотя, на наш взгляд, если бы такой летописец существовал, правомернее было бы предполагать именно его (а не гипотетической летописи галицких Ростиславичей) связь в протографе с галицко-волынским продолжением Киевского свода, летописью Волынских Мо-номаховичей. Уместно вспомнить в этой связи, что, по данным Н. Г. Бережкова, возможно, существовал владимиро-волынский источник Ипатьевской летописи, который должен был пользоваться сентябрьским началом года [1963. С. 184–185], что характерно и для немногочисленных точных датировок в Галицко-Волынской летописи XIII в.
Можно сказать, что гипотеза А. А. Шахматова и М. Д. Приселкова о галицко-во-лынском источнике Ипатьевской летописи как повествовании, в своем оригинальном виде последовательно излагавшем историю правлений Ростиславичей и потомков Романа Мстиславича, не получила ощутимого развития. В одних работах делается вывод об отсутствии летописной традиции в ЮгоЗападной Руси (см., например, [Котляр, 2009а. С. 56]), в других – о недостаточности данных для определенной атрибуции единого источника «галицких» известий XII в. [Толочко, 2003. С. 153]. Исследователи чаще всего говорят о проявлении здесь альтернативного летописи жанра, который по-разному определяется ими: либо как повести о деяниях князей (см., например: [Котляр, 2005. С. 60]), либо как целостное историческое повествование, аналогичное византийским императорским историям или западноевропейским хроникам (см.: [Приселков, 1996. С. 96; Лихачев, 1947. С. 255– 256; Гимон, Гиппиус, 2005. С. 193]). Рассуждая о близости летописи Волынских Мо-номаховичей западноевропейскому и византийскому историческому повествованию, обычно подразумевается наиболее очевидный факт: галицко-волынские летописцы не вели текущих погодных записей, а составляли истории правлений князей ретроспективно. Таким образом, имеется в виду аспект чисто прагматический, а не художественный. Обращение к топике как универсальной константе средневековых литератур, позволило бы поставить данную разновидность древнерусского летописания в более широкий историко-литературный контекст и объяснить его жанровую специфику.
Началом летописи Волынских Монома-ховичей в Ипатьевском своде признается панегирическое вступление, содержащее похвалу князьям-предкам правящей Волынской династии (Роману Мстиславичу и Владимиру Мономаху), следующее во всех списках Ипатьевской летописи после завершающей повествование статьи киевского свода. Однако о происхождении, источниках и времени внесения данного текста в летопись высказывались различные гипотезы.
Большинству исследователей, занимавшихся восстановлением этапов сложения текста третьей части Ипатьевской летописи, похвала деяниям Романа и Владимира Мономаха и следующий за ней рассказ об изгнании половецких ханов на Кавказ представлялись позднейшей вставкой, причем мнения о ее возможном источнике существенно различались. Л. В. Черепнин (со ссылкой на Вс. Миллера) видел в ней самостоятельное произведение либо вошедший в летопись отрывок эпического воинского цикла [1941. С. 240]. А. С. Орлов указывал на ее вероятные книжные образцы: хронику Малалы и Александрию [1926. С. 104]. А. Н. Ужанков, исходя из гипотезы о двух этапах редактирования летописца Даниила Галицкого, связывает ее внесение с работой автора второй Холмской редакции, которому могут принадлежать упоминания о князе Романе в дальнейшем повествовании, а также вставка (под 1223 г. Ипатьевского списка) об истории Холмской кафедры [2009. С. 367]. Наконец, А. В. Горовенко считает панегирик Роману вставкой, сделанной самим автором повествования о княжении Даниила Галицкого, но на более позднем этапе редактирования текста, а именно при соединении Киевского свода с Летописцем Даниила [2010. С. 227].
В этой экспозиции реализуются два типологических элемента, которые мы определяем как топосы начала истории и происхождения героя , необходимые для летописи (а шире – для исторического повествования вообще), что уже говорит о ее начальном, авторском характере. Представляется, что панегирик Роману не является простой вставкой, а открывает повествовательную систему (летописно-династическую), о чем свидетельствует выбор топики, направленной на реализацию определенной стратегии повествования. С этой точки зрения становится ясным выбор летописцем определенных стилей, эпического и панегирического, для презентации образа предков династии Романовичей.
Топос происхождения героя (соответствующий рубрике γένος античной биографии) вообще был укоренен в риторической структуре античных жизнеописаний и энко-миев, обязателен он и для житийного канона, где часто присутствует восхваление благочестивых предков святого, но в целом не был столь характерен для древнерусского летописания (за исключением некоторых житийных текстов в составе летописи). Вступительный панегирик предкам – доста- точно редкое явление для раннего летописания, где более привычны посмертные похвальные слова князьям (как, например, часто сближаемый с похвалой Роману и Мономаху некролог Ярославу Осмомыслу, помещенный в Ипатьевской летописи под 1187 г., который по своей функции ей прямо противоположен, так как является именно некрологом).
Помещенная в начале повествования о Галицком мятеже похвала предкам Волынских князей имеет вполне четкие функции, для осуществления которых летописец сознательно обращается к определенным стилистическим приемам. Он создает героизированные образы, помещенные в «эпическом времени», исчисляемом без обращения к хронологии, а путем апелляции к родовой памяти и введения двух генеалогических рядов: династии Мономаха и рода половецких ханов Отрока, Сырчана и Кончака. Характеристика Мономаха и его потомка Романа в летописи воплощает значимый для средневековых историй тип «легендарного предка» – основателя династии, христианского государя, положившего начало объединению земель и победившего язычников.
Летописец называет Романа «приснопамятным самодержцем всея Руси» 3. Подобным путем реализуется данный топос в типологически близких Галицко-Волынской летописи каролингских придворных историях, в частности в Vita Karoli Magni Эйнхарда, где собственно жизнеописание Карла начинается с рассказа об упадке старой династии Меровингов и возросшем могуществе его предка, Карла Мартелла, победившего сарацин 4.
Я. С. Лурье писал, что в Галицко-Волын-ской летописи «богаче, чем в других летописях XII–XV вв. отражена… фольклорноэпическая традиция» [1973. С. 87], имея в виду, прежде всего, половецкое сказание о предках Кончака. Необходимо добавить, что это практически единственный сюжетно целостный эпический нарратив в составе Галицко-Волынской летописи. В остальном повествовании можно говорить только об элементах эпической стилизации на уровне мотивики, впрочем, довольно малочисленных (и совсем отсутствующих в «волынской» части летописи) 5. Для понимания данного фрагмента оказывается значимым тот герменевтический принцип разграничения генезиса и функции, о котором писал А. М. Ранчин: «Тот или иной мотив, образ, эпизод, сюжет должен определяться не по своему происхождению, а по функции в тексте» [2001. С. 73].
Локализация легендарно-эпического материала именно в начале летописи, по нашему мнению, не случайна: его введение в повествовательный ряд служит средством помещения подвигов предков Романовичей в эпическом хронотопе (топос происхождения героя ) и направлено на формирование соответствующего восприятия начала истории династии.
Начало истории династии Романовичей, а не Галицкой земли, оформленное как своего рода династическая легенда, воспроизводящая, скорее всего, фольклорный образ Романа, представляло особую важность для выбранной летописцем повествовательной стратегии. Топос начало истории 6, несомненно, присутствовал в сознании автора, о чем свидетельствует его намерение привести сказание о галицком кургане и «начатьи» Галича (Ипат., 722) 7, сопровождаемое подходящим для оформления данного топоса выражением «откуду ся почалъ». Но на первом плане, в экспозиции ко всей Галиц-ко-Волынской летописи, автор помещает именно историю рода Романовичей, собираясь рассказать об основании Галича в дальнейшем: «по сем скажемь о Галицине могиле и о начатьи Галича» (Ипат., 722).
Презентация образа Романа Мстиславича как основателя династии актуальна для га-лицко-волынского повествования во всем его объеме. Если сам Роман выступает в летописи как правитель, своими деяниями положивший начало истории династии, то его наследники представлены в роли «обновителей» его славы [Лотман, 2005. С. 109]. Уже в известии о вступлении Романовичей на княжение в Берестье горожане «с великою радостью сретоша и, яко великого Романа видящи» (Ипат., 720–721).
Рассказ о походе Даниила на ятвягов завершается славословием князю, «наследившему путь отца своего великаго Романа» (Ипат., 813). Панегирик Даниилу, обложившему покоренных ятвягов данью, сопровождается сходным комментарием: «по вели-комъ бо князе Романе никто же не бе воевалъ на не в Роускихъ князихъ, разве сына его Даниила» (Ипат., 835). Указание на родство с Романом включается также в ти-тулатуру волынских князей (в том числе и в документы в составе летописи – духовные грамоты Владимира Васильковича и устав на ловчее Мстислава Даниловича).
Следует обратить внимание и на то, что сравнение с Романом сопровождает рассказы о деяниях не только князя-воина Даниила, но и представленного в летописи «миротворцем» Владимира Васильковича. Это придает единую установку «галицкой» и «волынской» частям летописи – «обновление» славы основателя династии. Так, сообщение об основании Каменца сопровождается комментарием летописца, что город поставлен на земле, опустевшей «по 80 лет по Романе» (Ипат., 875, ср. там же, 698). Сравнение с Романом включено и в посмертный плач волынских горожан по Владимиру (Ипат., 920).
Таким образом, составители летописи Волынских Мономаховичей, как нам представляется, могли располагать достаточным материалом для пространного рассказа о княжении Романа Галицкого (если предположить существование его личного летописца), но не стремились к этому, как и к тому, чтобы только заполнить промежуток между окончанием Киевского свода и Га-лицко-Волынской летописью.
Презентация образа Романа Мстиславича, актуальная для всего текста Галицко-Волынской летописи, обусловлена жанровой природой текста – летописно-династическим повествованием. Магистральная стратегия Галицко-Волынской летописи, апология и легитимация династии Романовичей, побуждает авторов изложить ее происхождение от героических предков – Романа и Владимира Мономаха. Таким образом, стремление представить происхождение рода выступает в летописи (как повествовании не специально биографическом, а историческом) 8 концептуальным началом династической истории . В этой связи получает объяснение использование эпического стиля и легендарного материала.
REGARDING THE REPRESENTATION OF PRINCE ROMAN MSTISLAVICH IN GALICIAN-VOLYNIAN CHRONICLE