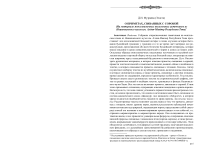О приметах, связанных с сорокой (на материале монголоязычных письменных источников из Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва)
Автор: Музраева Деляш Николаевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 4 (59), 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение. Собрание старописьменных памятников на монгольском языке из Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва представляет для исследователей большой интерес в плане изучения истории бытования буддийской традиции у тувинцев и в то же время дает материал для реконструкции, представления обо всем богатстве буддийской литературы, которая имела хождение в среде священнослужителей и мирян и дошла до наших дней. Отдельные образцы монголоязычных письменных источников из музейной коллекции введены в научный оборот, но все еще большой пласт литературы не известен широкому кругу исследователей-буддологов и монголоведов. Цель. Рассмотреть рукописные материалы, в которых описаны приметы, связанные с сорокой, провести текстологический и тематический анализ, выявить общее и особенное в текстах, в которых описываются приметы, связанные с птицами. Методы. Автор осуществил подборку текстов из музейной коллекции, включая вновь описанные, в которых упоминается сорока, а также приметы, связанные с другими птицами, провел анализ их содержания, определил характерные особенности. Результаты. Проведен анализ шести рукописных текстов на старомонгольской графике, взятые из разных коллекций и подборок текстов, хранящихся в фондах Национального музея Тывы. Все эти тексты включают приметы, связанные с сорокой. К ним тесно примыкают сочинения, содержащие описания поведения и криков вороны. Несмотря на то, что пока сложно установить первоисточники рассмотренных текстов, но можно предположить, что одним из источников может быть сочинение из состава канонического свода «Данджур» под названием «Käkajariti», в котором кратко излагается индийский метод гадания по крику вороны. Заключение (выводы) . Рассмотренные тексты позволяют сделать вывод о том, что приметы, связанные с птицами, имеют древние корни, являются результатом наблюдений кочевников-скотоводов над природой, окружающим миром, представляют собой своего рода способ его познания и комментирования происходящих в нем событий, т.е. отражали мировосприятие и мировоззрение народа. Они складывались на протяжении веков, в них приводятся универсальные формулы, содержащие описание явлений природы, связанные с поведением птиц (сороки, вороны), а также разъяснения, вскрывающие закономерности происходящих в этом мире событиях. Этим объясняется устойчивость этих формул в устной традиции, получившей письменную фиксацию, а в дальнейшем заимствованной буддийскими проповедниками, включившими эти образцы в состав текстов с приметами и гаданиями.
Буддизм, старописьменная литература, монгольская письменность, приметы, гадания, язык птиц, сорока, ворона
Короткий адрес: https://sciup.org/149139271
IDR: 149139271 | DOI: 10.54770/20729316_2021_4_415
Текст научной статьи О приметах, связанных с сорокой (на материале монголоязычных письменных источников из Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва)
Изучение и введение в научный оборот письменных памятников буддийского содержания, сосредоточенных в российских и зарубежных музейных фондах, остается важным направлением монголоведения. Собрание старописьменных памятников на монгольском языке из Национально-
** The reported study was funded by government subsidy — project name ‘Oral and Written Heritage of Mongolic Peoples of Russia, Mongolia and China: Cross-Border Traditions and Interactions’ (state reg. no. AAAA-A19-119011490036-1).

го музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва представляет для исследователей большой интерес в плане изучения истории бытования буддийской традиции у тувинцев и в то же время дает материал для реконструкции, представления обо всем богатстве буддийской литературы, которая имела хождение в среде священнослужителей и мирян и дошла до наших дней. Отдельные образцы монголоязычных письменных источников из музейной коллекции введены в научный оборот [Митруев 2019 и др.], но все еще большой пласт литературы не известен широкому кругу исследователей-буддологов и монголоведов.
При первоначальном знакомстве с рассматриваемой коллекцией обращает на себя внимание наличие большого количества текстов, отчасти фрагментарных, содержание которых составляет описание примет и гаданий, связанных с животными, птицами, явлениями природы и проч. Это неслучайно, поскольку с древности людям было свойственно пытаться узнать, что ожидает их в будущем, искать подсказки в окружающем мире. Исследователи монгольской мантики (предсказаний) отмечают, что «приметы определялись традиционным образом жизни - скотоводством, охотой и вообще погруженностью в природу. Поэтому в прорицаниях часто встречаются ссылки на поведение птиц и животных, как диких, так и домашних, тонкие наблюдения над природными феноменами» [Тугутов 2011, 27]. О том, что в гаданиях используются широко распространенные в быту предметы (бараньи лопатки, шагай (овечьи суставные бабки), монеты и проч.), а также приметы и знаки в поведении чаще всего встречающихся птиц и животных (ворон, сорока, лошадь, верблюд, собака, волк, лисица), писал Д. Очирбат [Очирбат 1990, 78-82].
Данное исследование опирается на письменные источники, зафиксированные на старой монгольской графике, имевшие хождение в среде тувинских буддийских священнослужителей. Нас в особенности заинтересовали тексты, связанные с птицами, в первую очередь с сорокой, с ее стрекотанием и полетом. Два текста представлены в коллекции известного священнослужителя Куулар Оруса (о нем см. [Сарыылдыг огбениц алдын уужези 2016]). По некоторым грамматическим формам можно предположить, что данные тексты восходят к более раннему первоисточнику, но установить определенно какой-то пратекст довольно сложно. В письменной литературе приметы передаются словом iru-a (‘знак, примета’) (см. наир. [23 tijel: л. 2а]).
Тексты, содержащие описания примет, связанных с сорокой
Среди текстов, рассмотренных нами, есть такие тексты, в которых сорока выступает главным объектом, с которым связываются приметы и гадания. Одним из них является текст из разряда сутр (от санскр. sutra ‘сочинение, авторство которого приписывается Будде’), полностью посвященный описанию примет, связанных с сорокой. Он озаглавлен «Сутра знания языка сороки» (монг. Sayacayai-yin kele medekii sudur) [Sayacayai-yin kele], В нем говорится о том, что может означать стрекотание сороки, которое кем-то было услышано в определенное время суток и которое исходило с определенного направления. В нем, в частности, говорится следующее:
«Если прокричит в час зайца с южной стороны, то будет прибыль. Если прокричит с юго-востока, то исполнится все задуманное. + [=Если прокричит] с восточной стороны, то все будет хорошо. [=Если прокричит] с северо-восточной стороны, явится человек, услышишь добрую весть. [=Если прокричит] на северо-западе, то случится болезнь, начитывай молитвы. [=Если прокричит] с западной стороны, если для скота совершишь обряд воскурения, то божества-хранители окажут покровительство. [=Если прокричит] с юго-запада, то услышишь плохую весть» [Sayacayai-yin kele: л. 1а].
В рассматриваемых текстах имеются пропуски в местах повторов одних и тех же слов, которые на письме отмечаются знаком крестика. В процитированном выше фрагменте, к примеру, крестик проставлен в местах пропуска слова dongyudbasu ‘если прокричит’.
Как видно из приведенного фрагмента, важно было знать и ориентироваться не только по четырем основным сторонам света, но и определять на местности четыре промежуточных направления.
Приметы, связанные с голосами птиц (сороки и вороны)
В музейной коллекции представлено сочинение, в котором дается описание голосов птиц. Этим сочинением является «Сутра распознавания голосов птиц» (монг. Sibayun-il dayun-u sinjin-u sudur) [Sibayun-u sudur], Судя по нему, следует различать крики сороки в зависимости от времени суток:
«Если [прокричит] на рассвете, то прибудут мясо, горячительные напитки, вещи. Если [прокричит] на восходе солнца, то издалека прибудут гости. Если [прокричит] в сумерках, услышишь интересную новость. Если [прокричит] в обед, погода будет обычной. <...> Если [прокричит] на склоне дня (т.е. когда солнце склонится к закату), то будет падеж скота» [Sibayun-u sudur: л. ЗЬ-За].
Содержание этого сочинения не ограничивается перечислением примет со стрекотанием сороки, в нем также есть приметы, обусловленные карканьем вороны. Примечательно, что эти приметы сгруппированы: сначала перечисляются те, которые характеризуют разновидности крика (карканья) вороны (а), далее те, что связывают с направлением, откуда эти звуки исходят (б), а также те, которые зависят от времени суток (в):
-
(а) «Язык вороны [таков]. Если [прокричит] «хонг-хонг», то услышишь приятные слова. Если [прокричит] «донг-донг» («дунг-дунг»), то найдешь еду и питье. Если [прокричит] «данг-данг», то это значит спешит посланник (посол). Если [прокричит] «хайс-хайс», то нагрянут воры или волки. Если [прокричит] «хайна-хайна», то для власти [будет означать] спокойствие» [Sibayun-u sudur: л. 1b].
Небольшим уточнением к приведенному описанию карканья вороны может послужить пример из другого текста, о котором будет сказано далее; в нем сказано, что на приближение посланника (посла) указывают

крики «dong dang» [Keriy-e sayacayai-yin bicig: л. 7а].
-
(б) «Если [прокричит] с востока, то значит приближается посланник неприятеля. Если [прокричит] с севера, то нападут враги или же воры. Если [прокричит] с запада, то приедет женщина с ребенком. Если [прокричит] с юга, то будет большое празднество» [Sibayun-u sudur: л. 1Ь-2а].
-
(в) «Если [прокричит] в час мыши, то будет плохо другу, детям. Если [прокричит] в час быка, то будет падеж среди овец. Если [прокричит] в час тигра, то случится хорошее дело. Если [прокричит] в час зайца, то привезут мясо и горячительные напитки. <.. .> Если [прокричит] в час обезьяны, то придут гости. Если [прокричит] в час курицы, то вечером поднимется ветер» [Sibayun-u sudur: л. 1Ь-2Ь].
В этой же сутре мы встречаем небольшой фрагмент гадания по полету вороны: «Если, каркая, сложит свои крылья плашмя и быстро улетит, то явно будет пыльно (поднимется пыль)» (монг. qarkirun qoyarjigilr-iyen qabsurun tilrgen odbasu ilede (=iledte) tosun bolqu bui::) [Sibayun-u sudur: л. lb-2b].
Подробная инструкция, как следует разгадывать крики птиц, как они связаны с особенностями обитания в той или иной природной среде, заключена в другом тексте из музейной коллекции, название которого можно передать как «Распознавание карканья вороны и стрекотания сороки» (монг. Keriy-e dongyudqu ba: sayacayai saysiqu-yi sinjiku anu:):
«Распознавание карканья вороны и стрекотания сороки таково: Когда ворона или сорока кричат, это означает, что призывают своих птенцов или пару. Это означает, что будут бороться за еду и гнездо. Следует оценивать все, что заставляет волноваться. В тот момент, когда издают крики, если произносят звуки странно, склонившись на одну сторону (на один бок), то тем самым [показывают, что] являются посланниками хранителя-тенгрия. Нет никаких оснований, чтобы не придавать этому значения. В писаниях и сутрах сказано, что они передают благоприятные или неблагоприятные признаки (приметы). Когда разгадываешь, то прежде следует выяснить, с какого направления летят, издавая звуки, а также в какое время издают крики, следует последовательно распознавать» [Keriy-e dongyudqu, sayacayai saysiqu: л. 1а].
Тексты примет с элементами буддийского содержания
Примечательно, что среди интересующих нас текстов встретилась версия, вобравшая в себя сразу две сутры. В этом сочинении, озаглавленном «Сутра знания языка вороны и языка сороки, представленные вместе» (монг. Keriyen-u kele ba sayacayai-yin kele medeku sudur qamtuda orusiba) [Keriyen-u sayacayai-yin sudur], мы находим фрагменты, сходные с содержанием первых двух из рассмотренных ранее текстов. В целом содержание этих текстов совпадает, но обращает на себя внимание такая особенность этого сводного текста, как отражение социальной иерархии того общества, в котором они были востребованы. Это явно проявляется в таких описаниях примет, связанных с воронами: «Если [прокричит] «хайна-хайна», то для власти [будет означать] спокойствие. Ночью не издают звуки, но, если прокричит (закаркает), какому-то хану будет плохо» [Keriyen-u sayacayai-yin sudur: л. 3b].
В той части сводной сутры, где описываются приметы, связанные с сорокой, наглядно просматривается буддийская составляющая, что прослеживается в следующих строках: «Если [прокричит] с востока, то приедут ламы и нойоны» (монг. bariyun-ece dongyudbasu blam-a ba noyad irekil:) [Keriyen-u sayacayai-yin sudur: л. 6b], «Если [прокричит] с юго-востока, то явится лама (монах) в красном одеянии, отыщется и скот, и имущество» (монг. Ьагауип етйп-еjilg-ece dongyudbasu ulayan debeltei blam-a baysi irekil ed mal olduqu.) [Keriyen-u sayacayai-yin sudur: л. 9a] и далее: «Если [прокричит] с северо-запада, то будут болезни» [Keriyen-u sayacayai-yin sudur: л. 7а]. Средством, способным оказать помощь при болезнях, являются молитвы, которые следует произносить: «Начитывай [молитвы] Дара Эхэ (или Таре) и [Обладающей] белым зонтом (или Ситатапатре)» (монг. dar-а eke cayan sikilrtu ungsi) [Keriyen-u sayacayai-yin sudur: л. 7а]. Речь идет о молитвенных текстах, обращенных к женским божествам буддийского пантеона - Таре (от санскр. Тага ‘Спасительница’) и Ситатапатре (от санскр. Sitatapatra ‘Тара, обладающая белым зонтом’). Здесь также предписывается совершить обряд вознесения тринадцати воскурений, чтобы божества-покровители проявили заботу и милосердие. В случае несчастья, беды (монг. yai bolqu) сказано, что следует читать тексты Праджняпарами-ты - сочинения, содержащие разъяснение доктрины о запредельной или совершенной мудрости.
Несмотря на то, что установить первоисточники проанализированных текстов пока представляется сложным, можно предположить, что одним из них может быть сочинение из состава канонического свода «Данджур» под названием «О криках вороны» или «Исследование звуков, [издаваемых] вороной» (санскр. kakajariti, тиб. bya-rog-gi skad brtag-par bya-ba), в котором кратко излагается индийский метод гадания по крику вороны (см. [Laufer 1914, 7-30]). Примечательно, что Б. Лауфер в своей статье, посвященной гаданиям по птицам у тибетцев, упоминает и сороку как одну из птиц, знающих будущее [Laufer 1914, 31].
Тексты примет, связанные с времяисчислением и календарем
Знакомство с содержанием текстов примет, связанных с птицами, демонстрирует, насколько важно было уметь не только ориентироваться в пространстве, на местности, но и правильно определять отрезок времени дня и ночи, устанавливать час в сутках. Для того чтобы найти правильный ответ, необходимо было точно представлять, в какое время суток произошло то или иное событие. В этой связи следует сказать несколько слов о том, как определяли кочевники время дня и ночи. Отметим, что повсеместно в текстах упоминается время суток, которое определяется по привязке к животному: например, «в час мыши» (монг. quluyun-a cay-tu), «в час коровы (или быка)» (монг. itker cay-tu) и т.д. Названия месяцев указы-
вают на лунно-солнечный календарь, основанный на 12-летнем животном цикле, получивший распространение среди тувинцев вместе с буддизмом [Тувинцы 2008, 120].
В этнографической литературе вопрос о способах определения дневного времени по движению солнечного луча по внутренним частям конструкции традиционного жилища кочевников монголов описывался Н.Л. Жуковской [Жуковская 1988, 35], о точке отсчета в делении суток писала Э.П. Бакаева [Бакаева 1997, 98-99]. Все исследователи отмечают, что сутки у монголов делились на 12 двойных часов [Бакаева 1997, 98; Скородумова 2004, 58].
Что касается рассматриваемых текстов, то наше внимание привлекло еще одно сочинение, связанное с криками вороны и сороки, в котором разъясняются такие основополагающие моменты, как определение времени суток, содержатся указания относительно того, какие месяцы в году и какие дни бывают неблагоприятными (монг. qar-a букв, ‘черные’). Это сочинение имеет заглавие «Протяженность времени дня и ночи» (монг. Edilr soni-yin сау-ип kemjiy-e: Keriy-e sayacayai-yin kele medeku bicig orusiba) [Keriy-e sayacayai-yin bicig]. Помимо этого, в нем дается описание того, какие месяцы какого времени года рассматриваются «черными» (те. неблагоприятными), а также какие дни и даже часы в сутках могут быть «черными» или неблагоприятными. Включение перечисленных фрагментов в данное сочинение делает его очень ценным источником традиционной культуры тувинцев, которые пользовались этим и подобными текстами, своего рода справочником (мини-энциклопедией) знаний примет на основе тонких наблюдений над окружающей природой. Из него мы, в частности, узнаем, что:
«В [продолжение] шести месяцев весны и осени часы [речь идет о сдвоенных часах] определяются так: “Когда восходит солнце, это час зайца, когда солнце взошло (когда рассвело), это час дракона, час перед полуднем - это час змеи, полдень - это час лошади, когда минует полдень, наступает час овцы, когда солнце клонится к закату, это час овцы, солнце перед заходом - час обезьяны, когда солнце заходит, это час курицы, перед появлением звезд - час собаки, когда появляются звезды (при наступлении сумерек), это час свиньи, полночь - это час мыши, после полуночи час коровы, когда рассветает, это час тигра. В три летних месяца, когда восходит солнце, это час дракона, рассвет - час тигра, когда солнце взошло, то это час зайца, когда солнце взойдет высоко, это час дракона, перед обедом час змеи, полдень - это час лошади, солнце клонится к закату - это час овцы, солнце перед заходом - час обезьяны, когда солнце на заходе - час курицы, перед появлением звезд - час собаки, когда появляются звезды, это час свиньи, полночь - это час мыши, забрезжил рассвет - это час коровы. В три зимних месяца, когда восходит солнце, это час дракона, когда солнце взошло, это час змеи, в полдень - час лошади, когда минует полдень, наступает час овцы, солнце заходит - это час обезьяны, перед появлением звезд - час курицы, когда появляются звезды, это час собаки, перед полу- ночью час свиньи, полночь - это час мыши, после полуночи - час коровы, когда забрезжил рассвет, это час тигра, на рассвете, когда начинает светать, это час зайца”» [Keriy-e sayacayai-yin bicig: л. 1 b 2b].
Дальнейшее рассмотрение текстов показало, что значение придается цвету оперения залетевшей в дом птицы, при этом не менее важно знать, в какой именно день месяца произошло это событие. Так, в тексте «23 приметы» мы находим такие описания:
«[О том,] какая птица залетит в дом. Если в день мыши в дом залетит птица с синим, черным или желтым оперением, то будет прибыль, если оперенье белого цвета, то умрет человек. Если в день коровы в дом залетит птица с синим, белым или желтым оперением, то будут страдания от злословия и смерти, если с черным оперением, то оскудеет скот. <...> Если в день зайца в дом залетит птица с синим, черным или красным оперением, то будет опасность от злословия или же случится пожар, но если оперенье будет желтого или серого цвета, то испытаешь радость» и т.д. [23 tijel: л. 1Ь-2а].
Таким образом, человек при распознании той или иной приметы, а значит, и решения какой-либо проблемы, волновавшей его, мог воспользоваться знаниями, содержащимися в подобных сочинениях, вооружиться ими и, основываясь на опыте, который давал традиционный образ жизни (скотоводство, охота), найти соответствующее решение, отгадку.
Как показывают рассмотренные тексты, в приметах даются отсылки на поведение птиц, которые часто встречались в окружающей природе. В данном случае - это сорока и ворона.
Все привлеченные тексты представляют большой интерес в первую очередь для этнографов, но следует признать, что материалы, содержащиеся в них, будут интересны фольклористам и литературоведам.
Выводы
Е1риметы, связанные с птицами, а также основанные на них системы гадания, имеют древние корни, являются результатом наблюдений кочевников-скотоводов над природой, окружающим миром, представляют собой своего рода способ его познания и комментирования происходящих в нем событий, т.е. отражают мировосприятие и мировоззрение народа. Они складывались на протяжении веков, в них содержатся универсальные формулы, описание явлений природы, связанные с поведением птиц (сороки, вороны), а также разъяснения, вскрывающие закономерности в происходящих в этом мире событиях. Этим объясняется устойчивость этих формул в устной традиции, получившей письменную фиксацию, а в дальнейшем заимствованной буддийскими проповедниками, включившими эти образцы в состав текстов с приметами и гаданиями.
Следует различать пророческие приметы, а также приметы, для которых, помимо примечания того или иного явления, характерна воспитательная функция, выраженная формулой предостережения. Как выясняется, важное место в приметах отводится семантике цвета одежды, масти скота (домашних животных), цвету оперенья птиц.
Дальнейшее изучение представленных в данной работе текстов позволит сделать выводы обобщающего характера относительно индо-тибетских заимствований в монголоязычной литературе.
Список литературы О приметах, связанных с сорокой (на материале монголоязычных письменных источников из Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва)
- Sibayun-u sudur - Sibayun-u dayun-u sinjin-u sudur ('Сутра распознавания голосов птиц'). - Монгольский фонд Национального музея РТ. Шифр М-194. 3 л.
- Sayacayai-yin kele - Sayacayai-yin kele medekü sudur ('Сутра знания языка сороки'). - Монгольский фонд Национального музея РТ. Шифр 3-10. 4 л.
- Keriyen-u sayacayai-yin sudur - Keriyen-u kele ba sayacayai-yin kele medeku sudur qamtuda orusiba ('Сутра знания языка вороны и языка сороки, представленные вместе'). - Монгольский фонд Национального музея РТ. Шифр М-11. 12 л.
- Keriy-e dongyudqu, sayacayai saysiqu - Keriy-e dongyudqu ba: sayacayai saysiqu-yi sinjikü anu: ('Распознавание карканья вороны и стрекотания сороки'). -Монгольский фонд Национального музея РТ. Шифр М-31. 1 л.
- Keriy-e sayacayai-yin bicig - Edür söni-yin cay-un kemjiy-e: Keriy-e sayacayai-yin kele medeku bicig orusiba ('Отрезки времени дня и ночи. Письмо знания языка вороны и сороки'). - Монгольский фонд Национального музея РТ. Шифр М-21. 8 л.
- 23 üjel - 23 üjel orusiba ('23 приметы'). - Монгольский фонд Национального музея РТ. Шифр М-339. 11 л.
- Бакаева Э.П. К вопросу об особенностях лунно-солнечного календаря у калмыков // Степь и Кавказ (культурные традиции). Труды Государственного Исторического музея. Вып. 97. М.: ГИМ, 1997. С. 93-99.
- Жуковская Н.Л. Категории и символика традиционной культуры монголов. М.: Наука, ГРВЛ, 1988. 196 с.
- Митруев Б.Л. О фрагменте монгольского перевода «Заново переведенных "Записей нефритовой шкатулки" для разных дел» из Национального музея имени Алдан-Маадыр Республики Тыва // Монголоведение. 2019. № 4. С. 751-813.
- Очирбат Д. Мэргэ, телге (Тадания и предсказания'). Улан-Батор: Улсын хэвлэлийн газар, 1990. 151 с.
- Сарыылдыг егбениц алдын уужези (Орус Кууларныц 100 чыл оюнга) ('Драгоценное наследие мудрого старца' (к 100-летию Куулара Оруса Донгур-оолови-ча): фольклорно-исторические материалы и воспоминания). Кызыл: Тываполи-граф, 2016. 240 с.
- Скородумова Л.Г. Монгольская астрология Дзурхай. Улан-Батор: Бемби Сан, 2004. 102 с.
- Тувинцы // Тюркские народы Восточной Сибири / Отв. ред. Д.А. Функ, Н.А. Алексеев; сост. Д.А. Функ. М.: Наука, 2008. С. 19-261.
- Тугутов А.И. Монгольская мантика // Восток (Oriens). 2011. № 3. С. 26-37.
- Laufer B. Bird Divination among the Tibetans (Notes on Document Pelliot No. 3530, with a Study of Tibetan Phonology of the Ninth Century) // T'oung Pao. Vol. 15. No. 1, 1914. P. 1-110.